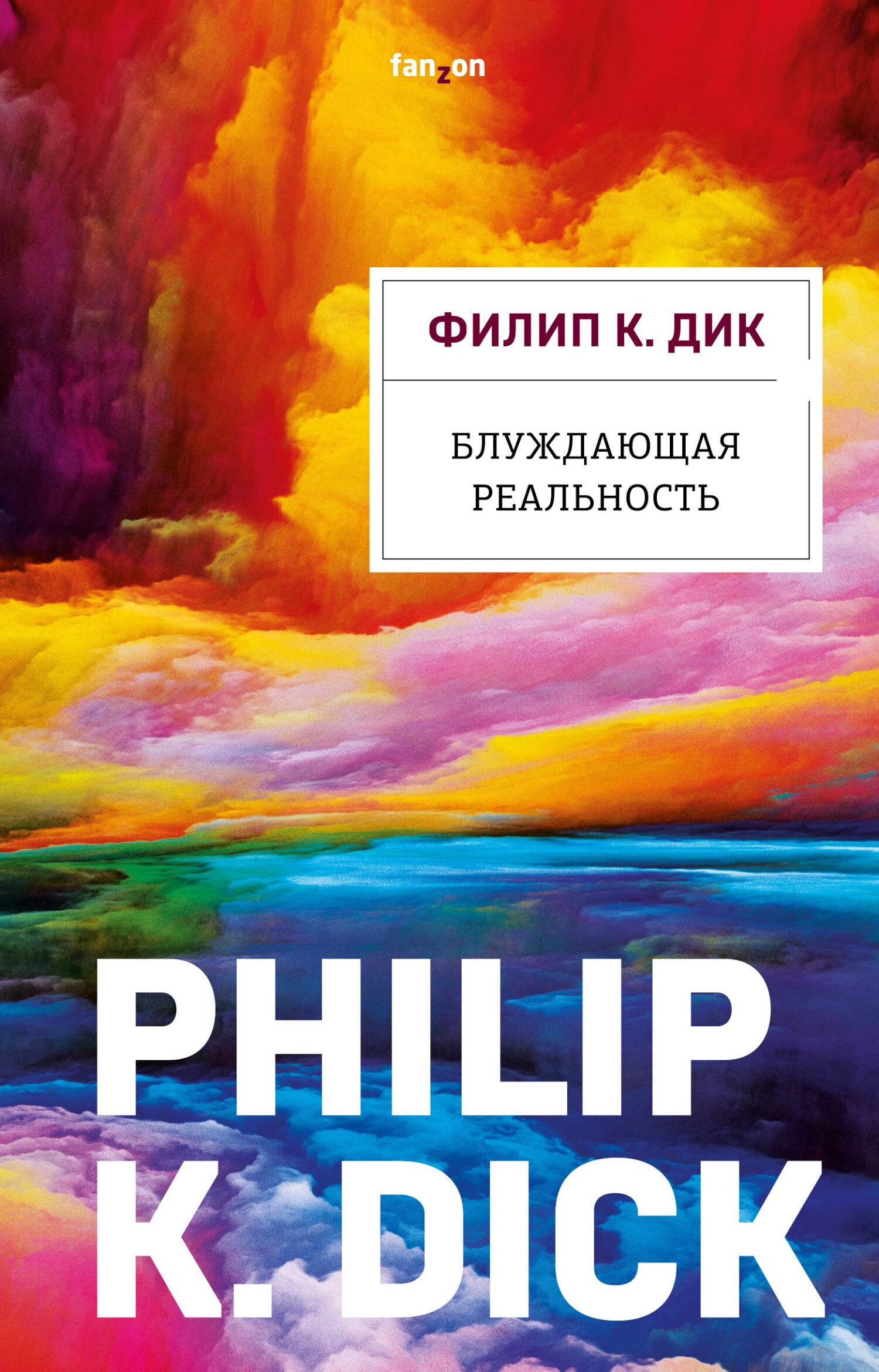волки. Застряв посредине между митингом и отшельничеством – между политическим активистом и ученым, – они нашли (по крайней мере, я нашел) работающий компромисс: пока я пишу, компанию мне составляют персонажи, я могу любить их и поддерживать так же, как поддерживал бы «реальных» друзей, ведь в конечном итоге, как бы ни были наши книги насыщены идеями, пишем-то мы о людях! – и при этом можно не лезть на баррикады и не размахивать флагом, что мне совершенно несвойственно.
Судя по многочисленным конвентам, писатели-фантасты неподдельно любят друг друга и видят в коллегах не просто других писателей, а друзей. Наверняка это не уникальная черта фантастики – и все же писатели других жанров не так похожи на большую семью: среди них больше соперничества, они чаще имеют зуб друг на друга, и, слыша, что у кого-то вышел новый роман, чаще втайне надеются на его провал. Ничего подобного не встретишь у писателей-фантастов. Мы – одна семья, одна команда, как те, что во времена Византии трудились над какой-нибудь огромной мозаикой, не стремясь подписывать ее своими именами; мы друзья, мы восхищаемся друг другом не только как писателями, но и как людьми. Мы утверждаем бытие друг друга – и в этом духе дружбы ощущаем тесную связь с тем, что значит быть человеком. Холодных, шизоидных писателей-фантастов очень мало, если такие вообще есть: встретив Рэя Брэдбери, или Теда Старджона, или Нормана Спинрада, или А. Э. Ван Вогта, вы встречаете теплого, сердечного человека, который тоже хочет узнать вас поближе; вы – часть семьи, существующей уже много десятилетий и все растущей; здесь вы не найдете ни стерильных белых халатов, ни отстраненности, ни бездушия. Фантастика требует человечности – или, если сформулировать иначе, человек, не обладающий способностью к эмпатии и потребностью в ней, едва ли захочет писать фантастику. Слишком робкие, чтобы ходить на митинги, слишком сердечные, чтобы запереться в лабораториях и ограничиться экспериментами над животными или неодушевленными вещами, слишком взволнованные и нетерпеливые, чтобы ограничить свое знание только тем, что знаем совершенно точно – мы живем в мире, который в одной радиопередаче о фантастике был назван «миром тысячи «может быть»». Такой мир привлекает людей, которые одиноки, но не одиночки; а между этими двумя понятиями есть принципиальная разница.
Переоценка эксперимента Майкельсона – Морли
(1979)
Неудача знаменитого эксперимента Майкельсона – Морли в 1881 году, в котором абсолютная скорость Земли, движущейся сквозь светоносный эфир, оказалась равна нулю, породила теорию относительности Эйнштейна, утверждающую, что само понятие «абсолютной скорости» лишено смысла. Однако ученые из Калифорнийского университета, вооруженные более совершенными лазерными техниками, предлагают более вероятное объяснение нулевого результата: на самом деле Земля стоит на месте, а Коперник был тайным пифагорейцем, решившим восстановить в правах древнюю и давно отвергнутую гелиоцентрическую модель Солнечной системы. На конференции в Южной Калифорнии астрономы и астрофизики заявили, что: 1) необходимо вернуться к более точной геоцентрической модели; 2) Коперника следует выкопать и подвергнуть порицанию. Что касается Эйнштейна, то было выдвинуто предложение отныне отзываться о нем снисходительно и с некоторой насмешкой, однако в том, насколько ядовито должны звучать насмешки, присутствующие ученые во мнениях не сошлись.
Предисловие к роману «Доктор Бладмани»
(1979, 1985)
Что ж, в 1964 году, когда писал «Доктора Бладмани», я ошибся в своих предсказаниях. События, которые я предвидел, не произошли; начав читать роман, вы скоро поймете, о чем речь. Впрочем, научная фантастика и не предсказывает будущее. Это литературная условность, не более того. Как инопланетяне в «Звездном пути», которые все говорят по-английски.
Однако забавно взглянуть на то, в чем именно я оплошал. Хуже всего, пожалуй, что я совсем ничего не понял в развитии космических программ с участием людей. В «Докторе Бладмани» мы видим одного американца, вечно облетающего Землю по орбите. Это очевидная чушь: либо по орбите будет кружить множество американцев (и русских, коль уж на то пошло) – либо никто.
Разумеется, главное, в чем я ошибся, – дата конца света. Тогда, в 1964 году, я ожидал его в любую минуту, то и дело поглядывая на часы. Гораций Голд, редактор журнала Galaxy, однажды пошутил, что я вечно планирую апокалипсис на будущую неделю. Это было примерно в 1954 году: тогда я ждал конца света в 1964. Что ж, таковы были страхи того времени. Теперь у нас другие заботы. Беспокоимся о том, как при нынешней инфляции выплачивать долги, где взять бензин для автомобиля. Куда более земные проблемы, вовсе не космического масштаба.
Именно такие проблемы осаждают героев «Доктора Бладмани» в их мире – мире после Третьей мировой. Правда, автомобили там движутся на конской тяге. Зато очки чрезвычайно редки и стали сокровищем. Особым уважением пользуются производители сигарет, и величайшим почетом – те, кто умеет чинить вещи. Общество перевернулось вверх дном, но не стало жестоким, как мы могли бы ожидать. Изменилось оно в другом отношении – стало сельским. Большие города стерты с лица земли, на их месте раскинулась бесконечная сельская глубинка, жить в которой вовсе не страшно. Стоит добавить, что она ни в коей мере не напоминает наш мир.
Впрочем, в нашем мире не было Третьей мировой.
На мой взгляд, этот роман полон огромной надежды. В нем следующая война не становится концом человеческой цивилизации. Люди по-прежнему здесь, живут и со всем справляются. Те, кто выжил, в общем, не жалуются на свою новую жизнь. Интересны перемены в социальном положении выживших. Возьмем Хоппи Харрингтона, у которого нет ни рук, ни ног. В мире до ядерных ударов Хоппи – маргинал, не обладающий никакой властью. Счастье – если ему удается найти хоть какую-то работу. В послевоенном мире все меняется. Благодаря своим новым способностям он возвышается и в конце концов становится угрозой для всего человечества – не только на поверхности планеты. Хоппи превратился в полубога, и достаточно сложного. Он ведь сам по себе человек не злой, перед нами случай злоупотребления властью. Зло не в Хоппи – оно в самой власти.
А Уолт Дэнджерфилд на спутнике превращается из верного помощника оставшихся на земле, из человека, поддерживавшего их в беде, дававшего им силу и единство – в того, кто слабеет день ото дня и отчаянно надеется на помощь. Он воплощает в себе одиночество, страх многих оставшихся внизу: одиночество – и потерю предметов и ценностей, составлявших их изначальный мир. Идет время, и уже не Дэнджерфилд дает силу тем, кто остался на земле, – теперь они должны придать сил ему. В этот вакуум