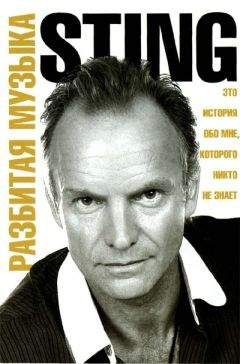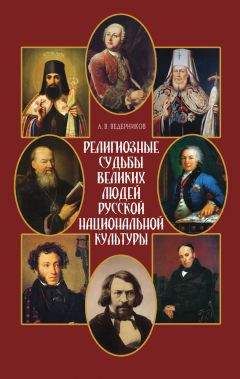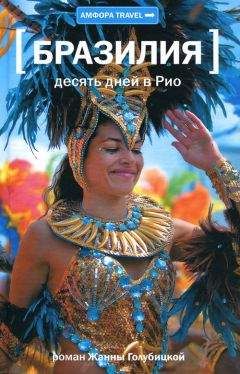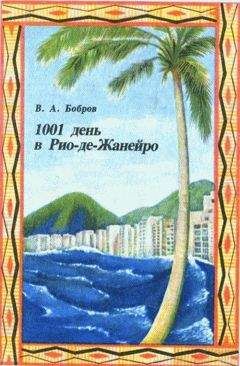То, что я прочел об аяхуаске и его необыкновенной способности вызывать видения, сильно меня заинтересовало. И то умонастроение, в котором я находился, заставляло меня полагать, что, если я выпью это зелье в условиях настоящего, серьезного обряда, я, возможно, смогу более глубоко понять, что случилось с моими родителями и со мной самим.
Когда-то я в течение недолгого времени и весьма поверхностно увлекался наркотиками, но прием аяхуаски мне описывали как в высшей степени серьезное переживание, способное изменить всю жизнь, переживание такого рода, к которому я теперь, как мне казалось, был готов. Если в этом переживании и заключалась для меня некая опасность психологического или какого-то другого порядка, я убеждал себя, что я уже достаточно взрослый и могу пойти на этот риск, как если бы я решил совершить горное восхождение или прокатиться на мотоцикле. Разговаривая с опытными людьми, давно принимающими аяхуаску, я выяснил, что это снадобье не наркотик, а лекарство. «Наркотик, — сказал мне один человек, — дает немедленный эффект, человек сразу чувствует некое наслаждение, будь то сигарета, алкоголь, кокаин или героин, но потом приходится платить за это наслаждение головными болями, похмельем или, что еще хуже, зависимостью или привыканием. Выкури достаточное количество сигарет — и ты умрешь. Лекарство же, как правило, не дает немедленного эффекта. В конце концов вы можете быть вознаграждены, но сначала вам придется заплатить. Аяхуаска — как раз такое лекарство».
У меня не было ни малейшего представления, что он имел в виду, но вот-вот все должно было проясниться. Проходит около двадцати минут. Музыка продолжает звучать. Стул главного мэтра никогда не остается пустым; если мэтр покидает помещение, его место занимает кто-то из помощников, пока тот не вернется. Во всем этом есть что-то успокаивающе формальное, дух упорядоченности и обряда.
Первым признаком того, что снадобье начинает действовать, становится появление у меня в голове какого-то высокочастотного, почти за пределами человеческой слышимости, звука, затем у меня коченеют губы и явно снижается температура тела. Я начинаю дрожать, сначала слегка, а затем все более интенсивно. Дрожь поднимается от ступней вверх по ногам, волна за волной, пока наконец все тело не начинает трястись что есть силы. Трудно определить, является ли дрожь следствием какой-то психологической причины, например страха, или я просто замерз. Я осознаю происходящее достаточно для того, чтобы помнить, что паниковать не нужно, и пытаюсь успокоить дыхание, но к горлу подступает тошнота, а затем с нарастающей силой схватывает желудок, пока мне не начинает казаться, что внутри меня извивается змея, стремящаяся вырваться наружу. Все, что я могу сделать, — это попытаться не допустить, чтобы меня вырвало. Я изо всех сил сжимаю ручки кресла и стараюсь дышать как можно глубже.
Нечто мощное и непреклонно жестокое проходит через все мое тело, через каждый кровеносный сосуд и каждую артерию, вниз по ногам до самых кончиков пальцев и вдоль по сухожилиям моих рук. В кончиках пальцев рук я чувствую уколы разрядов неведомой мне энергии. Ужасный вкус, который по-прежнему ощущается у меня во рту, кажется физическим аналогом самого страха, и вот я осознаю, что оказался во власти некой химической сущности, в настоящий момент значительно более могущественной, чем я. В то время как внутри меня бушует буря, за стенами церкви вновь начинает греметь гром, еще одна зловещая и раскатистая угроза с небес. Я поворачиваюсь к Труди, которая выглядит спящей, но под ее закрытыми веками заметны стремительные движения зрачков, а брови сдвинуты, как в момент сильнейшего сосредоточения. Я шепчу: «Господи, спаси и сохрани нас». И на этот раз в моих словах нет ни тени иронии. У меня такое впечатление, что все присутствующие в помещении поглощены какой-то внутренней борьбой. Некоторые скорчились в своих креслах, другие — явно капитулировали и лежат с открытыми ртами, как выброшенные на берег рыбы, третьи выглядят спокойными, словно во власти каких-то блаженных видений. И вдруг, как некий невиданный контрапункт громовым раскатам, начинается рвота. Меня об этом предупреждали, но совершенно невозможно заранее подготовиться к горестному звуку этой страшной, жестокой музыки, музыки унижения, физического страдания. Мне едва удается удержать под контролем мой пищеварительный тракт, когда я смотрю, как другие покидают свои кресла и безо всяких церемоний протискиваются к двери. Одни выходят, но другие остаются на своих местах. В помещении предусмотрительно расставлены ведра с опилками, чтобы присыпать постыдные лужи рвоты.
Пожалуйста, пусть это пройдет, я не хочу, чтобы меня вырвало, я не хочу опозориться здесь, пусть это пройдет.
Мэтры стоически и невозмутимо восседают в центре комнаты так, как будто все идет своим чередом. Они тоже выпили снадобья, причем довольно большие порции, но, кажется, абсолютно не подвержены нарастающим среди присутствующих тошноте и ощущению сильнейшего дискомфорта.
За ближайшим от меня окном какая-то несчастная душа как будто извергает нескончаемый поток ужасных демонов из самых внутренностей своего личного ада. Я пытаюсь заткнуть себе уши пальцами и дышать как можно глубже; я действительно почти не в состоянии больше это выносить. Дрожь прекратилась, но поселившаяся внутри меня анаконда яростно стремится выбраться из моего тела. Капли пота начинают покрывать мое лицо и грудь, а глаза закатываются. Неужели я сам пошел на это? Должно быть, я обезумел. Никогда в жизни я не чувствовал себя так плохо и не помню, чтобы когда-либо был настолько испуган. Еще один громовой раскат довершает ощущение агонии. Но именно в тот момент, когда кажется, что во мне не осталось больше воли, чтобы противостоять этой бешеной атаке, я слышу пение. Я слышу красивый, неземной топос мэтра из Манауса. Он поет безо всякого аккомпанемента, и голос плывет сквозь влажный воздух, наполняя помещение сладким ароматом мелодии. Я закрываю глаза, чтобы полнее испить чудесный бальзам пения, и вдруг оказываюсь в огромном храме света. Песнь превратилась в свет и цвет, а в воздухе повисла фантастическая архитектура Данте и Блейка. Откуда-то сверху меня поддерживают небесные существа, похожие на ангелов. Их тела закрывают небо, образуя гигантский купол. Мои видения постепенно принимают вид причудливых спиралей, геометрических структур, башен, тоннелей, вихрей, залов и комнат. Прозрачность видений и насыщенность цветов так отличаются от того, что я привык видеть наяву, как будто я и в самом деле очутился в абсолютно другой реальности. И в то же время достаточно лишь открыть глаза, чтобы снова увидеть комнату в ее обычном виде. Однако это не галлюцинации. Речь не идет здесь об искажении привычной реальности; цвета и видения относятся к какой-то отдельной, самостоятельной реальности, спроецированной на внутреннюю сторону моих век. Стоит закрыть глаза — и вы переноситесь в этот незнакомый мир, столь же реальный, как и любой другой, где звук становится светом, свет становится цветом, цвет превращается в геометрию, а геометрия приводит в действие воспоминания, истории и эмоции не только из вашей собственной жизни, но и — удивительным образом — из жизни других. Одно из двух: или я брежу наяву, или я умер. Вот я за штурвалом бомбардировщика ночью над охваченным огнем городом; вот я на баркасе, когда за бортом бушует шторм. Вот я участвую в сражении, и гром за стенами церкви превратился в грохот артиллерийских орудий. Вот я в глубоком, грязном и сыром окопе, и рядом со мной кто-то, присутствующий как бы на границе моего сознания, почти как тень. Я буду называть его «провожатый». Рядом есть и другие, и вал артиллерийского огня сотрясает землю повсюду вокруг нас. Эти другие — просто мальчишки в обмундировании не по размеру и в стальных, забрызганных грязью касках. Они испуганны и дрожат в сырости траншеи. Я тоже испуган и встряхиваю головой, пытаясь сменить видение.