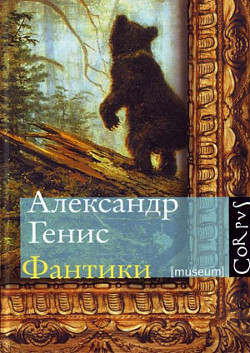до живота: “чу-торо”, розовый ломоть с бледными прослойками, и “о-торо”, сероватое брюхо тунца, драгоценный фокус праздника.
Схватив, сколько успел, я урча донес покупку до дома, чтобы правильно съесть. Такую рыбу нельзя, как это часто делают гайдзины-варвары, ни с чем смешивать. Соевый соус ей нужен не больше, чем черной икре. И уж тем более преступна мысль о хрене васаби, который годится лишь тем, кого отпугивает сырая рыба (пусть едят воблу). Единственное дополнение – ломтик маринованного имбиря, чтобы оттенить паузу. Единственный гарнир – безраздельное внимание. Чем дороже кусок, тем труднее уловить его вкус. Красная часть тунца отдаленно напоминает семгу до засола, белая ближе к мороженому. Жирную плоть не нужно жевать – она тает на нёбе, как капли дождя. Это не вкус, а призрак вкуса, может быть, его мираж.
Чтобы осознать и зафиксировать ускользающий эффект, нужен не повар, нужна традиция. Тунец в японском застолье играет главную – шаманскую – роль. Завораживая и опьяняя, он переносит нас на тот первобытный пир, что располагался между охотой и жертвоприношением.
3 мая
Ко дню рождения Татьяны Толстой
Толстая пренебрегает грубым произволом вымысла. Она доверяет только тому достоверному материалу, что поставляет память. Все, что мы помним, существует сейчас, в момент воспоминания. Зная, что его нельзя “ухватить грубыми телесными руками”, Толстая полагается на внутреннее зрение. Включить и отточить его – задача автора.
Запуская действие, Толстая поднимает занавес, оканчивая – опускает его. Такое происходит и в каждой сцене при смене декораций: “Закат играет всеми цветами, то красную полосу пустит, то лиловую, потом золотая корочка загорится на туче, или все морозной зеленью подернется, лимоном блеснет звезда. Лучше телевизора”. Последняя фраза снимает красоту предыдущей ремарки, не отменяя и не снижая, а прекращая ее падением занавеса.
Им начинается и кончается каждый рассказ и в старых, и в новых сборниках (“Легкие миры”, “Невидимая дева”, “Девушки в цвету”). Когда нас приглашают, мы входим в рассказ и выходим из него, когда провожают. Скорее зрители, чем читатели, мы должны все понять сами. На автора рассчитывать не приходится. Толстая ничего не объясняет и ни о ком не заботится.
Письмо Толстой громче голоса и зорче взгляда. Ее экстатическая проза создает иную степень изобразительной интенсивности. Поток повествования срывает сенсорные фильтры, и органы чувств работают в сверхнормальном режиме, отчего перепутанные датчики обретают дополнительные возможности. Толстая “знает, как пахнет буква «Ф»”, она слышит “боль, которая гудит, как трансформатор”, она щупает “ватную метель” и пробует “пресное городское солнце”. Манипулируя исходным материалом своей прозы, Толстая достигает гиперреальности, свойственной настоящим стихам: каждое лыко в строку, случайное переплавляется в необходимое.
5 мая
К Международному дню пожарных
Вдвадцать лет я решил жениться. Одна крайность повлекла за собой другую. В поисках заработка я оказался в пожарной охране, где на протяжении двух лет проводил каждые четвертые сутки. Примостившаяся у заводского забора пожарка состояла из двух помещений без окон. В первой стоял неработающий телевизор, во второй – стол для игры в домино. Вдоль стен тянулись топчаны, но я предпочитал жить в гараже вместе с пожарной машиной. Воздух там был холодней и чище. Зимой я бинтовал поясницу шарфом, надевал кирзовые сапоги, застегивал пальто, поглубже нахлобучивал ушанку и укладывался на санитарные носилки, украденные с одной из машин скорой помощи, которые выпускал охраняемый нами завод, когда ему хватало деталей. Даже в Новый год я предпочитал мороз коллегам и жалел только о том, что приходилось снимать варежки, чтобы переворачивать страницы.
Но и в таком виде я отличался от остальных нормальностью. Я приходил сюда из дома и на время. Им идти было некуда – пожарка не заменяла дом, а была им. Я рвался наружу, они – внутрь. Их нельзя было прогнать с работы, и когда кончалась смена, они прятались в сортире, чтобы провести лишний час в тепле и уюте. Разумеется, все они были безнадежными алкоголиками и проводили ночи там, где их оставило вакхическое вдохновение: в шкафу, на полу или за якобы письменным столом.
Пожарные добились того, что алкоголь вымел из них все инстинкты, кроме самосохранения, заставлявшего их сдавать бутылки. Борясь с плотью, они искореняли ее в себе самыми изобретательными способами. Помимо очевидного, в дело шли очищенный на сверлильном станке клей БФ, разведенная зубная паста, вымоченное в тормозной жидкости полотенце и, конечно, политура. В морозные дни ею поливали подвешенный ломик: посторонние примеси примерзали к железу, повышая градус того, что стекало. Глядя на меня с высоты своего изощренного опыта, они делились бесстрашной мудростью.
– Вас, студентов, – учил начальник караула, – пугают метиловым спиртом. Вам говорят, что от него слепнут. Но ведь не все!
7 мая
Ко дню рождения Платона
Самое непривычное у греков – дистанция от низкого до высокого: ее не было. Читателю, наученному другой традицией, трудно поверить, что Аристофан был собутыльником Сократа, которого он безжалостно и несправедливо высмеял. Раз Платону это не помешало, значит, и нам не должно. Но сперва надо разлучить текст Платона с его учением, иначе читать его страшно. Он всегда убеждает, в чем хочет, и нам, как одному из собеседников, остается ответить: “Я не в силах спорить с тобой, пусть будет по-твоему”.
Проза Платона, однако, только в пересказе профессоров становится его великой философией. Без нее тоже нельзя. Я и сам хочу “туда, где все чисто, вечно, бессмертно”. Но еще больше у Платона мне нравится рама. Его диалоги прекрасно обчитывать по краям, наслаждаясь бытовым прологом или меланхолическим финалом. Но можно выискивать попутную радость и в разгар беседы, замечая то, о чем забыли в пылу спора собеседники.
– Но чем же питается душа, Сократ?
– Знаниями, разумеется.
Всех платоновских “идей” мне дороже это сократовское “разумеется”. За ним стоит столь самоочевидная для греков истина, что им нельзя не завидовать. Ведь уже ни одна эпоха не сможет так запросто, почти бездумно ответить на мучающий нас всех вопрос: чем кормят душу?
На прощание Платон написал сухие “Законы”, из которых следует, что он изрядно разочаровался в платонизме. И его можно простить, потому что пока человек жив, его система не закончена, а когда он мертв, ее пишут другие. Не доказательная сила платоновской диалектики, а глубина и точная простота брошенной вскользь реплики оправдывает чтение диалога, если в нем есть такое: “Люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга”.
Мне чудится, что это написал Чехов, но, судя по “Человеку в футляре”, он вряд ли ценил греков.
10 мая
Ко дню рождения музея Клойстерс
Америка, понятное дело, не знала Средневековья, но она не может отвести от него взгляда. Новый Свет стилизовал собственную историю по старосветскому образцу. Если присмотреться к американским мифам, то легко