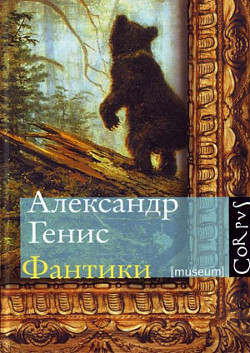со смазливым Арамисом, который тоже был своего рода поповичем.
18 мая
Ко дню рождения Питера Брейгеля старшего
Принято считать, что картина “Падение Икара” – притча о незамеченной трагедии. Непонятый гений, Икар погибает героической смертью, окруженный безразличием тех самых людей, которым он хотел дать крылья.
Художник действительно демонстрирует нам, как все не заметили падения Икара. На тонущего героя не смотрят не только люди – пастух, рыбак, моряки и пахарь, но и животные – лошадь, собака, четыре птицы и двадцать овец. Но это еще не значит, что все они не заметили происшествия, оно их просто не заинтересовало. Окружающие не могли не слышать плеска и крика. Однако неудача свалившегося с неба Икара им не казалась столь важной, чтоб перестать пахать, пастись или поднимать снасти.
Герои Брейгеля игнорируют не только Икара. Они и друг на друга не смотрят. На всех картинах Брейгеля люди не встречаются взглядом – и на пиру, и в танце. Даже пустые глазницы слепых глядят в разные стороны.
Брейгелевские персонажи не могут охватить взглядом и тот мир, в котором живут. Целиком пейзаж способен воспринять лишь зритель. Ему художник дает верхнюю точку обзора. Наделяя нас птичьим зрением, Брейгель позволяет разглядеть сразу все – от былинки до гор, тающих за горизонтом. Поместив зрителя над миром, позволив осознать причины и следствия происходящего в нем, художник поставил нас в положение Бога, всемогущество которого равно лишь Его же беспомощности. Бог не может помочь Икару, ибо, исправляя ошибки, лишь приумножает их.
Падение Икара у Брейгеля происходит весной. То же солнце, что расплавило воск на крыльях Икара, пробудило природу. Что же делать? Отменить весну, чтобы спасти Икара? Добро становится злом, когда вмешательство воли или чуда нарушает нормальный ход вещей. Не мудрость, не любовь – только безразличие природы способно решить это этическое уравнение. Икара нельзя спасти. Его провал – не роковая случайность, а трагическая закономерность. Смерть Икара – не жертва, а ошибка, не подвиг, а промашка. И сам он не мученик, а неудачник. Брейгель взывает не к состраданию, а к смирению. Воля и мужество требуются не для того, чтобы исправить мир, а для того, чтобы удержаться от этой попытки.
18 мая
Ко дню рождения Будды
Будда не требовал от своих учеников и сторонников веры, без чего невозможна наша религия. Он называл себя не Луной, а пальцем, указывающим на Луну, и каждая его статуя убеждает в этом.
На Востоке скульптура не была, как в античности, царицей искусств. В Китае теологией занимались пейзажисты, психологией – каллиграфы, а статуи считались куклами для простонародья. Чтобы оживить их, потакая суеверию, внутрь запускали муху. Буддийский скульптор во всем полагался на позу. Оценить ее действенность лучше всего на практике. Но чтобы усесться лотосом, нужно два года упражнений, и мне уже поздно начинать. Зато в дзенском монастыре Нью-Йорка я видел, как это делал настоятель, начавший морским пехотинцем и закончивший, достигнув просветления, буддой. Приняв позу, свойственную скорее флоре, чем фауне, мы отказываемся от всего мешающего. Царь природы, говорит буддизм, не тот, кто ею пользуется, а тот, кто ею является.
О величии Будды говорит выражение лица, которое трудно описать, но еще труднее приобрести. Безграничный и безусловный покой. Разглаженный, без единой морщины лоб. Изгиб сросшихся бровей, миндалевидный разрез глаз и изящная линия губ рифмуются, как стая чаек в штиль. Полуопущенные веки прикрывают глаза настолько, насколько нужно, чтобы отличить от безмятежного сна напряженную работу медитирующего разума.
Будда спорит с привычками и побеждает заблуждения тем, что устраняет их причину – себя. Следствие победы – высшее достижение буддийского искусства: улыбка Будды. Иногда ее сравнивают с той, что осеняет лица древнегреческих куросов, архаических статуй, установленных в честь покойников. Их лица тоже озарены светом сокровенного знания. Улыбаясь, они утешают живых, обещая им сносное будущее. Но если мускулистый курос напоминает спортсмена, то Будда – духовный атлет, вроде христианских столпников, с той разницей, что, отказавшись умерщвлять плоть, он пользовался ею по назначению. Тело помогло ему вырастить ту самую улыбку, которая рождается в естестве человека, открывшего свое единственное предназначение – стать буддой.
19 мая
Ко Дню художественных музеев
Оцифровав всю историю изящных искусств, компьютер создал ее полный словарь, который годится для постмодернистской перестройки. Владея таким материалом, зритель легко заменяет художника, во всяком случае, такого, который не творит, а тасует.
Но интенсивный путь, как ему и положено, учит не разбрасываться. Идя вглубь полотна, особенно если оно – Ван Гога, мы можем открыть в нем то, чего не знал и автор: пульс живописи. Мазок, как почерк, обнажает подсознание картины, темперамент художника и комментирует те решения, которые принимала кисть в каждую секунду и на каждом миллиметре холста. Интимность такого скрупулезного знакомства (словно читать чужие, причем любовные, письма) не остается без последствий. Пройдя сквозь картину по следам мастера, мы притворяемся им и узнаём об изображенном немногим меньше.
Но каким бы образом мы ни общались с виртуальной живописью, главное – понять, чем она отличается от настоящей. Каждая техническая революция невольно – и потому гениально – перераспределяет границы искусства. Так было с фотографией, которая навсегда исключила из живописи критерий сходства. Так было с кино, которое навсегда отменило реализм в театре. Так происходит сейчас, когда компьютер учит нас отделять виртуальную действительность от живого опыта. И чем больше успехи первой, тем нам дороже второй.
Если раньше мы входили в музей, чтобы познакомиться с его содержимым, то теперь – чтобы побыть с ним, набраться чуда и заразиться им. Великие картины, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит; а другим не стоит оставлять пивную. Тем более теперь, когда компьютер так легко удовлетворяет поверхностное любопытство, что настоящие музеи нужны только фанатикам. Их, однако, меньше не становится. И я догадываюсь – почему. Чем больше мы знаем о картине, тем больше хотим узнать о себе – о том, как будем чувствовать себя в ее присутствии.
Живопись – трансформатор повседневности, и, деля с ним одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преображающее жизнь в искусство.
20 мая
Ко дню рождения Бориса Парамонова
Мне Парамонов напоминает Карамазовых, причем сразу всех, включая черта. Борис Михайлович – интеллектуал-провокатор. Он не оставляет ни одного камня не перевернутым, ни одной идеи непереиначенной, ни одного классика там, где взял. С ним нельзя не спорить. Спорить, впрочем, тоже нельзя, потому что я еще не встречал большего эрудита. Парамонов понятнее всех объясняет философов, глубже всех пишет о поэтах и не превзойден в анализе тех авторов, которых по-настоящему любит, например Платонова. Борис посвятил ему лучшую во всем литературоведении огромную статью “Трава родины”. Будь моя воля, я бы включил ее в