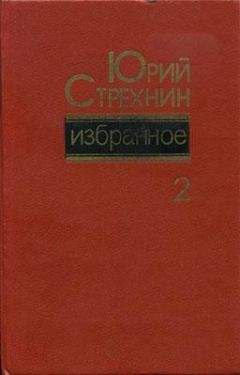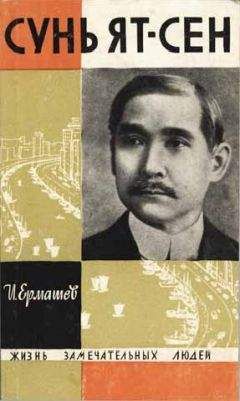Вот уже различимы на голубовато-сером ночном снегу темные очертания двух человек. Кажется, на них шапки-ушанки…
— Товарищи! — рванулась Саша, но острая боль в раненой ноге словно током ударила ее.
Потом, в медсанбате, ей рассказали: ее вытащили бойцы, предупрежденные, что ночью с немецкой стороны будет перебираться наша разведчица. Саше так и не удалось узнать имена тех двух солдат, что нашли ее на «ничейной» земле и на плащ-палатке притащили в санчасть. Если бы не эти ребята, она, возможно, так и осталась бы на снегу, обессилевшая от потери крови. Она не узнала имен двух солдат, спасших ее, так же как не узнали ее имени люди, благодаря ей спасенные от расстрела на мозырском кладбище.
«Но разве суть в том, чтобы стало известным имя? — подумала тогда Саша. — Не надежда на мою благодарность двигала теми двумя солдатами. Да и я ползла по мозырскому кладбищу не ради чьей-то благодарности. Важно сделать все, что можешь…
Все, что можешь… А ведь кто-то из наших сейчас, наверное, беспокоится обо мне, надеется что-то узнать…» Когда думаешь так — все-таки немножко легче быть здесь, в стенах, из которых нет выхода. Глухая ночь, тихо в подвале гестапо. И может быть, никого нет там, наверху, в кабинете следователя. Но проклятая машинка стучит… стучит…
Несколько дней назад Сашу перевезли на новое место. До этого она не знала, где находится. Знала только, что из Калинковичей, где ее схватили, увезли куда-то далеко, может быть километров за сто, везли в закрытой машине часа полтора. Высадили во дворе, огороженном высоким забором, и ей так и не удалось понять, в каком она населенном пункте.
На новом месте ее поместили в одиночке. Почти каждый день водят на допрос. Допрашивают по-всякому: иногда вежливо, иногда бьют. Но самое тяжелое — это когда не дают спать, когда часами держат стоя, беспрерывно задавая вопросы и повторяя: «Ответишь — отправляйся спать».
Сегодня ночью, вызвав на допрос, почему-то сразу же вернули в камеру. Успела заметить: у следователя, писаря, конвоиров очень встревоженный вид. Что случилось у них? Может быть, наши начали наступать?
…Открыла глаза. Все равно не заснуть. А ночь, кажется, уже кончилась. Грязно-серый потолок посветлел: где-то там, на свободе, уже взошло солнце. Сюда, в камеру, оно никогда не заглядывает. Снаружи перед окном приделан наклонный дощатый щит, и над его верхним краем видна только небольшая полосочка неба. Иногда там промелькнет птица. А вчера на край щита сел и долго скакал по нему воробей. И это очень порадовало Сашу. Все-таки живое существо. Ведь с тех пор как ее схватили, она не видела никого, кроме гестаповцев, конвоиров, тюремщиков. Они отгородили от нее весь мир.
И все-таки есть где-то, совсем близко, небо, солнечный свет, снег…
Привстав с тощей подстилки, Саша села, охватив руками колени, всматриваясь в продолговатый, вытянутый по горизонтали прямоугольник неба, рассеченный на клетки толстыми прутьями решетки. Сегодня небо необыкновенно синее. Таким синим оно становится лишь к концу зимы, когда уже уловим запах чуть подтаявшего снега. Сейчас он лежит, отяжелевший за зиму, плотный, зернистый. Если идти по нему, то с легким хрустом ломается чуть заметная сверху корочка и с каждым шагом под ногами раздается еле слышный, рассыпающийся звон, будто раскатываются тысячи крохотных, не видных глазу, стеклянных бубенчиков. О, если бы можно было сейчас выйти отсюда и пошагать под этим синим-синим предвесенним небом — напрямик, звонкими снегами, навстречу встающему за дальним лесом солнцу, навстречу своим, идти, дыша чистым воздухом зимнего леса.
Весна… Даже сюда, в это подземелье, долетело ее первое дыхание. «Весна придет. А меня, пожалуй, уж не застанет». Саше кажется, что она думает об этом уже почти спокойно. Ведь у нее было столько времени, чтобы привыкнуть к этой мысли…
Она привыкла к тому, к чему человеку привыкать противоестественно: к боли, к постоянному ожиданию новых мук, к тому, что в любую минуту на пороге могут появиться палачи. Привычным стало для нее и то, что вот уже второй месяц она не видит никого, кроме врагов. В какой-то мере Саша завидовала товарищам по группе: они, наверное, вместе.
В этот день ее так и не вызвали на допрос. А когда начало темнеть, в камеру втолкнули какого-то человека в порванном полушубке. Следом за ним кинули его шапку. Человек некоторое время лежал ничком, укрыв лицо между согнутыми руками, потом приподнялся, глянул на Сашу, удивился:
— Девушка? Тебя-то за что сюда?
— У фашистов спроси, — ответила Саша.
— Известно… — проговорил человек. — Гады, они и ни в чем не виноватых хватают… — Болезненно скривив лицо, пощупал пальцами лоб, на котором багровел широкий свежий рубец. — Чуть башку не раскололи, палачи проклятые!
На щеках человека, давно не знавших бритвы, покрытых клочковатой черной порослью, на его распухших губах виднелись следы запекшейся крови.
Кто он?
Саша не спешила расспрашивать. Она следовала неписаному правилу: если ты попал в руки врага и встретился там с кем-то, схваченным, как и ты, — не только не спеши рассказывать о себе, но и сам не будь очень любопытным, чтобы не вызвать подозрения, что ты — специально подсажен.
Конечно, Саше очень хотелось узнать, кто он такой, ее неожиданный сосед: провокатор, друг-соратник или ни то, ни другое — случайно схваченный по подозрению человек. Но она уже давно научилась выдержке.
А сосед тем временем успокоился, пристроился у противоположной стены, пошарил по карманам полушубка, наскреб несколько крупиц махорки, посетовал:
— Закурить бы… Да бумагу и зажигалку отобрали, проклятые. Была бы ты мужик, может, у тебя что нашлось бы, а так-то… Тебя как звать?
— Зови как хочешь, — уклончиво ответила Саша. — Хоть Авдотьей.
— Не, на Авдотью ты не похожа… — улыбнулся сосед. — А что не хочешь по правде-то назваться?
— Тебе разве не все равно? — вопросом на вопрос ответила Саша. — А уж если ты такой любопытный, так, пожалуйста, знай, секрета в том теперь никакого нет: я парашютистка.
— Парашютистка? Вон оно что! Ну, бедовая… Да меня озолоти — не соглашусь с самолета прыгать.
— Слушай, а где мы находимся? — спросила в свою очередь Саша.
— Как где? В гестапе.
— Знаю, что не в санатории. В местности какой?
— В Копцевичах.
— А ты что, здешний?
— Здешний. Наша деревня отсель шестнадцать километров. Всех немцы поразорили, сколько замордовали, скольких в Германию свою треклятую, вот таких молодых, вроде тебя, поугоняли. От такой жизни в партизаны пойдешь.