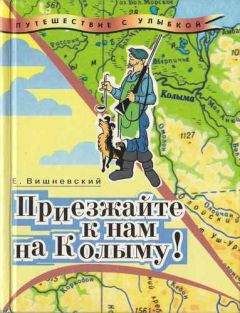– Ты, Петро, с нами был тогда на бричке. Говорил Петр Степанович, что не нужна будет коммунистическая партия?
– Да вроде бы говорил, – ответил нехотя Петро. Некоторые служащие тоже вспомнили разные разговоры Петра Степановича, но особенно ярким было выступление Баранецкого. Он буквально пригвоздил Петра Степановича к стене за то, что он смеет издеваться над горем партии, высмеивая замечательную картину художника Пчелина. После этого выступления уже ни у кого не было сомнения в том, что Петр Степанович просто саботирует мероприятия советской власти и что его надо немедленно уволить с работы, что и было сделано. Петру Степановичу обидеться бы на Баранецкого, а он почему-то обиделся на Парамона Артемьевича, подошел к нему после собрания и завел с ним разговор такого порядка.
– Парамон Артемьевич, мы же с вами рассуждали про бесклассовое общество, так его еще построить надо! Зачем вы так?..
– Я же ничего такого на вас не сказал особенного, – обиделся Парамон Артемьевич. – А что другие на вас наговаривали, так я за них не отвечаю.
Петр Степанович, конечно, расстроился и стал думать, куда ему теперь устраиваться на службу. Но через три дня пришел милиционер ночью (почему ночью?), своим стуком перепугал всю семью (при чем здесь семья?) и с наганом наготове повел в милицию. Здесь Петр Степанович, как он считает, перестал быть человеком: потребовали сдать пояс (а он и не думал вешаться), забрали перочинный ножик и посадили в общую камеру.
В отношении гигиены – нет слов для выражения, санитарное состояние камеры – кошмарное, а обращение – никудышное. Предварительное заключение, – возмутился Петр Степанович, – не доказательство еще, что ты – преступник: в предварительном заключении много таких людей, которых потом по следствию и по суду оправдывают. При чем же здесь наганы, винтовки, антисанитария, вши, клопы и всякая другая гадость?
– Хорошо, – рассуждает Петр Степанович, сидя в предварительном заключении, – допустим, я даже преступник, но почему я должен попадать обязательно в антисанитарные условия? У нас преступников не бьют, но почему преступнику создают чрезвычайно стеснительную обстановку? Почему преступников посылают в далекие табора и почему на 5, на 8, на 10 лет? И вообще – как они определяют, кто преступник, а кто – нет? Юристы отвечают: преступление подводится под статью, а статьи утверждены правительством. Хорошо, пусть так, – утверждены правительством, но судьи, прокуроры – неужели умеют ставить диагноз очень точно во всех случаях?
Так сидит Петр Степанович, по обыкновению, рассуждает и ждет точного диагноза. Проходит десять дней, а он все еще ждет. Хоть он и привык к разным поворотам судьбы, но уже отвык от стеснительной обстановки, напомнившей ему харьковскую каторжную тюрьму. Дак то ж было в молодые годы и при Деникине! А теперь власть, вроде, советская. И сам он уже – отец семейства, у него, между прочим, дома осталась жена Катя с тремя малыми детьми, младшему и года еще нет. Пока она носит ему передачи, но в случае чего – как они будут жить без него?
Задонецк город маленький, все всех знают, и знает Катя Мыколу Свиридова, уполномоченного какого-то в ГПУ И не только знает, а он кем-то там ей приходится, какой-то дальний племянник, седьмая вода на киселе. Идет она к нему домой, а его нету. Хорошо еще, что мама его была дома, Горпина Прокофьевна. Посидели, побалакали: уехал, говорит, на два дня к сельской учительнице в гости. Что за такая учительница, говорит, не знаю, ездит он к ней, его дело холостое.
Ладно, прошло два дня, приходит Катя снова. Приехал, приехал, – встречает ее Горпина Прокофьевна. – И сразу лег спать. Теперь до завтра не проснется.
Проспал Мыкола день, ночь и еще день, вечером просыпается хмурый, а тут снова Катя приходит. Так и так, забрали Петра Степановича, не можешь ли что узнать?
– Тут дело сурьезное, – говорит. – Контрреволюция! Есть протокол собрания.
– Та яка там контрреволюція? – вмешивается Горпина Прокофьевна. – Ты що, Петра Степановича не знаешь?
– Нэ знаешь, нэ знаешь! – передразнивает Мыкола, думая о том, чего бы сейчас выпить, чтобы промочить пересохшее горло.
– Газеты надо читать! Они все маскируются.
– А что там в протоколе-то написано? – спрашивает Катя.
– Да я его еще не читал, дел знаешь сколько?
– Ну, посмотри завтра.
– Посмотрю, если успею. Дел, знаешь, сколько набралось! На другой день, с утра Мыкола подробно рассказывал своему приятелю, другому уполномоченному, о сельской учительнице и прекрасно проведенном времени. А потом уже, когда все было рассказано, стал перебирать дела подследственных, какие за ним числятся, взял протокол Петра Степановича, мельком посмотрел и отложил, потому что вперед надо было разобраться в контрреволюционном деле Криволупа Луки, срезавшего колоски на колхозных посевах, – Криволуп ждал своего диагноза в камере предварительного заключения уже две недели…
Только еще через день вызвал он на допрос Петра Степановича. Спрашивает:
– Где вы были во время Деникина?
Пустяки, такие вопросы Петру Степановичу уже задавали.
– В каторжной тюрьме сидел, – отвечает и удостоверение показывает, всегда с собой брал в таких случаях. Слово по слову – туча с Деникиным разошлась.
С Деникиным не вышло, переходит Мыкола к другим каверзным вопросам.
– Правда ли, что вы в течение года взяли из совхозного свинарника семь откормленных свиней и зарезали их для себя?
– Нет, неправда.
– А сколько же взяли?
– Ни одной не брал.
– А зачем же в протоколе написано?
Видит Петр Степанович, что человек не верит, а он – ей-богу – ни одной свиньи не брал. Как-то был случай, что в начале года директор ему в счет зарплаты выписал поросенка, но кучер умудрился и тому хребет переломать, пока довез. Как могло случиться, что этот недовезенный поросенок в протоколе превратился в семь откормленных свиней?
Один день вызывают Петра Степановича из антисанитарной общей камеры, другой, третий. Чего только не спрашивали.
– А откуда вы знаете Папена?
– Да я его не знаю, он умер уже давно.
– Как же умер, когда о нем в газетах пишут?
– Да то другой Папен. То Дени Папен, который изобрел паровой двигатель, но его тогда не признали. А уже потом Джемс Уатт.
– А с Джемсом Уаттом у вас была переписка?
Бился он с Петром Степановичем, бился – ничего не добился. Или выпускать надо, или отправлять в Харьков – там добьются. Но выпускать-то он сам не имеет права. А доложить начальству, что не нашел никакой вины, – что же он тогда за уполномоченный? Вот незадача!
Видя, что дело затягивается, встревоженная Катя, вызвав срочно бабушку из Змиева, съездила на один день в город Сталино, столицу индустриального Донбасса. Там теперь, после переноса столицы Украины из Харькова в Киев, работал чуть ли не самым главным начальником по партийной линии брат Петра Степановича Василий Степанович. Катя каким-то образом добралась до Шуры, Шура поговорила с мужем, а он – мы не знаем с кем, но только Мыколу Свиридова вызвали к вышестоящему начальнику товарищу Подгаре и сказали ему, что, вероятно, предъявленные Петру Степановичу обвинения сильно преувеличены, и никакого хода этому делу давать не надо.