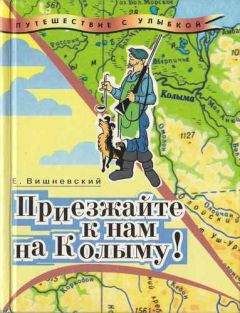– В семье отводите душу, – настаивает председатель.
– В семье я не бываю: ухожу – она спит, а вечером прихожу – тоже спит. Я хочу быть гражданином Советского Союза и свободно говорить, о чем я пожелаю.
– Что же вы – лучше других граждан? – спрашивает председатель. – Почему все время надо говорить? Вы же не радио. Если много говорить, работать будет некогда.
Петр Степанович и понимал вроде бы, что председатель завкома прав, но характера своего изменить не мог. Не нравилось ему, что порядок жизни не такой, как ему бы хотелось, и ничего он не мог с собой поделать.
Все это очень расстраивало Петра Степановича и даже пугало. У него теперь было уже трое сыновей, а что если с ним что-то случится?
Сыновья, по крайней мере, старшие, о младшем еще рано было судить, были похожи на Катю, с тонкими лицами, не то, что у него. У Петра Степановича на этот счет была целая теория, ему казалось, что вообще тонких лиц вокруг стало меньше. Как-то ухудшалась порода, видно, с селекцией что-то не так. Иван Григорьевич, – вспоминал он приятеля, – даром, что петлюровец, мужик был что надо, статный, лицо красивое. И неглупый. Если бы такой жеребец был или бык, за него бы в любом хозяйстве держались. А он даже потомства не оставил. Женился поздно, хотел троих детей, а Зинка ему ни одного не родила, а потом… Когда выйдет, уже поздно будет, да и выйдет ли еще. Может, конечно, у него где-то раньше что-то завелось, да теперь этого уже не узнаешь. Еще он вспоминал Дмитрия Петровича Шкодька. Его уже потом, из банка, забрали, разоблачили как эсэра. Он успел до революции родить сына и дочку. Дочка и сейчас жила неподалеку, ботанику в школе преподавала. А сына тоже арестовали, весь в отца пошел, а что же тут хорошего, по нынешним временам? И у Краулевича не было детей, хотя такие, в пенсне, сейчас бы точно не подошли.
У Петра Степановича дети пока росли, но, по его теории, тонкие лица не сулили им ничего хорошего. Детьми, конечно, больше Катя занималась, но и Петра Степановича они радовали. Учились хорошо – и старший, и средний, про младшего еще пока не было известно. Случались, конечно, и неприятности.
Как-то вызывает его директор школы, молодой подтянутый мужчина в гимнастерке, из новых, но на вид интеллигентный, и показывает ему рисунок старшего сына.
– Чи ви бачили цей малюнок вашого сина? – спрашивает. – Як це розуміти?[4]
Смотрит Петр Степанович на рисунок и ніяк не розуміє[5], хоть он когда-то и сам преподавал рисование в профучилище.
По морю плывет лодка, с неба светит солнце, все дети это рисуют. Он посмотрел вопросительно на директора.
– Якого кольору, на вашу думку це море? – спрашивает директор.
– Синього, – довольно уверенно отвечает Петр Степанович.
– Блакитного, – мягко поправляет его директор.
– Ну, блакитного, – не сопротивляясь, соглашается Петр Степанович.
– А човен якого кольору?
– Човен жовтий.
– И сонце жовте? – то ли спрашивает, то ли утверждает директор, обреченно глядя в пол.
– А яке ж воно має бути? – удивляется Петр Степанович.
– Це що ж, у вас в родини такий жовтоблакитный настрій? – директор не поднимает глаз от пола. – Інших кольорів немає? Та це ж справжній жовто-блакитный прапор!..
– А мені здається, що це аркуш зі шкільного зошиту.
– То я вас попередив, Петро Степанович. Як директор школи я мушу бути пильним[6].
Петр Степанович вернулся домой и отобрал у сына желтый карандаш. Оставил только синий.
Старший сын Петра Степановича всем интересовался, иногда даже удивительно было. Как-то спрашивает:
– Папа, если поднимется аэроплан над Харьковом и будет на одном месте кружить, то Англия сама подойдет под аэроплан?
– То есть как это? – спрашивает Петр Степанович.
– Как же ты не понимаешь? – даже обиделся старший сын. Земля вращается с запада на восток, и если подняться аэропланом, то какая-нибудь западная точка должна подойти под него сама. Я рассчитал, что такая точка может быть в Англии.
Петр Степанович выписал для своих детей журнал «Вокруг света» и сам тоже стал его почитывать. Это чтение навело его на новую мысль.
Редко, редко теперь случалось Петру Степановичу возвращаться к своим литературным занятиям, но все-таки он их не забросил. Кондуит был уже полностью исписан, писал Петр Степанович теперь на разрозненных листках, предназначавшихся для конторских надобностей и тоже соответствующим образом разграфленных. Но это ему не мешало. Как только выкраивалась свободная минутка, тут же доставал свои листки, добавлял к написанному страничку-другую, тщательно нумеруя страницы в правом верхнем углу, чтобы можно было легко восстановить нужный порядок, если нескрепленные листки рассыпятся или перепутаются.
Иногда Петр Степанович перечитывал написанное ранее, чтобы дать ему критическую оценку, с огорчением отмечал отдельные огрехи, которые он тут же выправлял. Особенно чертыхался Петр Степанович, когда обнаруживал у себя пропущенные украинизмы. Он знал за собой этот грех, когда-то с ним крепко боролись преподаватели Петра Степановича в реальном училище и его научили бороться. Но что поделаешь, по службе ему постоянно приходилось иметь дело с селянами, а они, по большей части, говорили по-украински, и с ними он тоже переходил на украинский язык. А потом, когда переходил на русский, и у него само выскакивало: «приехал с Харькова»; «не знаю, есть ли вообще мозги в нашего директора», и тому подобное.
Впрочем, это все – пустяки, Петру Степановичу его писанина нравилась. Читая, он довольно мотал головой, иногда даже смеялся и сам на себя удивлялся. Казалось бы, чему удивляться – ты же всегда себя считал предназначенным для мировой славы? Но, знаете ли, это все так считают, а верят ли они в это по-настоящему? Допустим, ты даже играешь на балалайке, так это же не значит, что ты Бетховен. Ты оглохни, а потом попробуй музыку сочинять! Но это мало кто даже пробует.
А тут Петр Степанович попробовал – и у него получилось. Не такой дурак был Петр Степанович, чтобы думать, что он уже переплюнул, например, Гоголя, Николая Васильевича, как ему виделось в его юношеских грезах. Но не хуже выходило, ей-богу, не хуже! Особенно если поработать еще немного, пошлифовать… Он уже видел Катю переписывающей его рукописи по десять раз, наподобие Софьи Андреевны Толстой, вот только дети подрастут и Катя поправится. А то у нее здоровье стало пошаливать, жаловалась на боли какие-то. Лекарства стала принимать. Ну, да образуется…
Из-за недостатка времени для литературного творчества труд Петра Степановича подвигался не так быстро, как хотелось бы. Свое жизнеописание, начатое, как мы помним, еще в Куземинах, он довел пока только до «главы девятой, в которой читатель еще больше распознает Петра Степановича по существу». А ведь у него были и другие литературные начинания, он делал заметки впрок, из исписанных конторских страничек составлялась уже изрядная стопка. Все это была большая литература, рассчитанная на другие времена, на благодарных потомков. Как всякое большое искусство, она требовала жертв и не давала немедленных результатов. Во всем этом было что-то основательное, старорежимное.