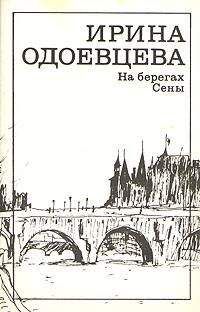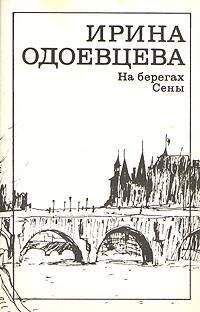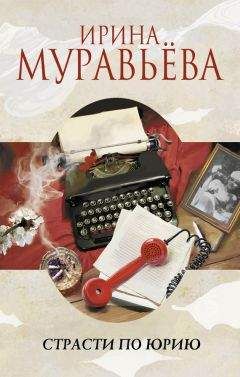И я согласилась.
Мне действительно не пришлось ни о чем заботиться. Аминадо не только написал текст всего, что мне полагалось сказать, но и прорепетировал его со мною несколько раз.
Я, выйдя на сцену, должна была не спеша дойти до самой рампы, остановиться, оглядеть зрительный зал, открыть сумочку, достать пудреницу и старательно сдуть с нее пудру в сторону зрителей. После чего, «попудрившись необычайно грациозно, улыбнуться своему очаровательному отражению в зеркале». И только проделав все это, объявить о начале вечера.
Для представления каждого выступающего мне пришлось выучить наизусть несколько фраз.
Так, представляя Мориса Ростана, я должна была сказать, указав на него плавным взмахом руки: — Le poete de «La Gloire» et la gloire des poetes[22]. Морис Ростан был автором пьесы «La Gloire».
На последней репетиции, когда Аминадо уже убедился, что я исполняю все в точности, он вдруг хлопнул себя по лбу к воскликнул:
— А самое главное я почти проворонил. Ведь вы ходить по сцене не умеете!
И хотя я его убеждала, что это-то я как раз и умею, он не поверил.
— Завтра привезу к вам Балиева. Пусть он с вами займется. Ждите нас около двух часов. Не уходите никуда. Сидите и ждите.
На следующий день он действительно приехал ко мне с Балиевым.
Балиев в прихожей долго и шумно переводил дыхание, будто поднялся на пятый этаж без лифта, хотя мы жили в «рэ де шоссе»[23] Войдя, он сейчас же тяжело опустился на диван, недовольно выпятив толстые губы:
— Только для вас, Аминад Петрович, пошел на эту мороку. Посмотрите на этого Ангела Смерти (я тогда недавно выпустила свой роман «Ангел Смерти»), ходит совсем недурно. А на сцене. конечно, прокатится, как игрушечный заяц на колесиках. Ну, начнем!.. Валяйте от двери до окна, — вы на сцене, помните!.. На сцене!
Я прошла широкими шагами, как меня когда-то учили, еще в Петербурге, на уроках пластической гимнастики.
Балиев свистнул и развел руками.
— — Ну, этого Ангела, пожалуй, учить ходить по сцене нечего. Он сам всякого научит. Тащите чай или что вы там для нас приготовили.
Вечер Дона Аминадо прошел прекрасно. Мне даже казалось, что это был самый удачный из всех литературных вечеров того времени.
В антракте, в переполненной комнате для артистов, я протолкалась к Аминадо и схватила его за локоть.
— Ах, как чудесно! Как весело! Как я рада, что вы уговорили меня. Мне никогда еще не было так весело, как сегодня! Он мрачно взглянул на меня.
— Рад, что вам весело, а мне так совсем невесело!
— Но почему? Почему? — недоумевала я. — Ведь все так чудесно! Такой восхитительный вечер! И полный сбор, конечно…
— Пропади он пропадом, этот вечер! — перебил он мои восторги. — Мою мать посадили не в ту ложу, которую она хотела, и она на меня страшно рассердилась. Даже уехать хотела…
<...>
1928 год. Мы с Георгием Ивановым живем в Париже, в меблированной квартире (13, rue Franclin), напротив особняка Клемансо. Окна наши выходят в хозяйский сад, в нем гуляют круглые большие голуби, распустив по-павлиньи хвосты. Они, особенно когда освещены солнцем, кажутся фарфоровыми. А деревья шумят здесь — или это мне только кажется — совсем особенно, как в Летнем саду, а не как в Люксембургском или Булонском лесу — скорее шелестят, тихо и легко шепчутся по-русски.
Мережковский, когда он впервые с Зинаидой Николаевной побывал у нас и осмотрел наш дом, воскликнул:
— Нет, все-таки я бы ни за что не поселился здесь! Ни-за-что! В 13 номере. Ведь теперь все удары и невзгоды посыпятся на вас.
Георгий Иванов саркастически улыбается:
— А сами вы, Дмитрий Сергеевич, позвольте узнать, в каком номере изволите проживать?
Мережковский удивленно уставился на него — ведь Георгий Иванов уже несколько лет еженедельно бывает на 11-бис Колонель Боннэ. Зачем же он спрашивает? Все же, привыкший к точности, он отвечает:
— Разве вы не знаете? На 11 — бис.
Брови Георгия Иванова взлетают еще выше.
— А что это такое, 11-бис? Тот же 13, только закамуфлированный, что ему, конечно, придает еще большую зловредность.
Мережковский, пораженный никогда не приходившей ему в голову мыслью, растерянно оборачивается к Зинаиде Николаевне:
— Зина, ты слышишь, что он говорит? Мы, оказывается, живем в 13 номере! Этого быть не может, скажи ему!
Но Зинаида Николаевна вовсе не потрясена таким открытием. Как всегда, она кокетливо-капризно тянет:
— Георгий Владимирович прав. Мы живем в закамуфлированном 13 номере. Ведь следующий дом 15-й. И стыдно быть таким суеверным. Успокойся!
Но Мережковский в тот вечер не мог успокоиться и оставался задумчивым — в постройке его мировоззрения вдруг обнаружилась щель, пусть микроскопическая, но все же щель. Он был страшно .суеверен. Впрочем, Георгий Иванов был, наверное, еще суеверней его. Но числа 13 он не боялся и даже любил его. Как бы то ни было, мы благополучно прожили на 13 rue Franclin до 1931 года, и ничего скверного с нами там не случилось.
Но сейчас только 1928 год. Я в сопровождении нашего с Адамовичем общего, а особенно моего, «авангардного» французского друга Жоржа Батая собираюсь на сюрреалистический вернисаж. Он старается открыть для меня новые горизонты.
Но мы с Георгием Ивановым и Адамовичем все трое относились довольно скептически к его открытиям. Нас, видавших и футуризм и всяческих ничевоков, сюрреализмом не удивишь.
Батай восхищается русской революцией, что нас не сердит, а смешит и не мешает нашей дружбе. Нам этот будущий великий философ кажется очень симпатичным, наивным и милым и не слишком умным.
Я, как всегда перед выходом, долго верчусь перед зеркалом в прихожей, примеряя то одну, то другую шляпу. Шляпы тогда еще играли большую роль в женском туалете. У меня их было много — на все случаи жизни.
Батай терпеливо ждет. Георгий Иванов смотрит на часы: — Двадцать минут пятого, Поплавcкий уже не придет. Клялся и божился, что будет у меня в половине четвертого. И как просил, чтобы я принял его. Безобразие. Больше не пущу его к себе.
— Наверное, проспал или забыл… — примирительно говорю я. — Не сердись!
Георгий Иванов пожимает плечами:
— Буду я сердиться. Подумаешь. Но ведь как умолял.. чтобы я выслушал его стихи. И вот не пришел.
Я натягиваю перчатки и в последний раз оглядываю себя в зеркале.
— Пожалуйста, если почему-либо задержишься, позвони по телефону. Без этой ритуальной напутственной фразы я никогда не выхожу из дома. Но когда опаздываю, все же почти никогда не звоню.
— Я вернусь к обеду, беспокоиться тебе нечего.
Георгий Иванов открывает дверь. Перед ней, держа в одной руке очки, а в другой тетрадку, стоит Поплавский. От неожиданности он роняет очки и тетрадку на пол. Исписанные страницы падают к его ногам.