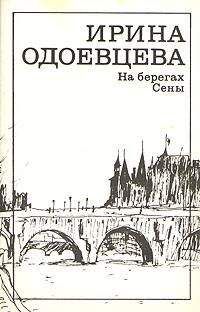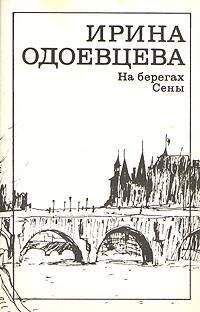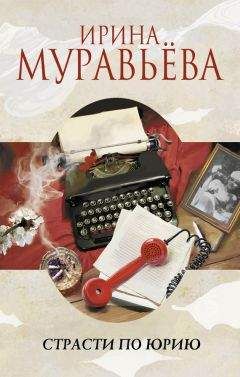Но отсутствие грамотности, как известно, не помеха таланту. Гумилев был почти так же безграмотен, как и Поплавский.
Еще об удивительном ораторском даре Поплавского.
Заседание «Зеленой лампы». Доклад Николая Оцупа. Переполненный зал избранных слушателей. Вход только по личным приглашениям, рассылаемым Злобиным. Антракт. Николай Оцуп спускается с эстрады, важно поделившись своими мыслями и домыслами о Прусте и Джойсе. У Оцупа совсем особая манера произносить речи с эстрады. В обыкновенной жизни он говорит гладко, легко, просто и ясно, не обнаруживая никаких речевых недостатков. Но на эстраде все меняется коренным образом. Он весь как бы тяжелеет, кроме рук, принимающих большое участие в его выступлении. Они грузно и энергично упираются в стол, будто выдавливая из него странный длительный звук э-э-э, прерывая старательно отчеканенные фразы. Выражение лица напряженно-мучительное, жилы на шее надуты — нелегко даются ему эти выступления.
Я недоумеваю: к чему так мучить себя? Лавров ему его выступления не приносят. Слушать его тяжело. Аудитория все же наградила Оцупа, как и следует, — ведь он так старался, бедняга, — аплодисментами, правда, не очень звонкими. Он кланяется, улыбается, блестя черными глазами — и вот уже он такой, как всегда: красивый, белозубый, стройный, просто и ясно осведомляющийся о впечатлении от его речи на слушателей.
Я — а как же иначе — кривлю душой, очень хорошо. Николай Авдеевич. как всегда, хорошо, содержательно и умно.
Для меня в заседаниях «Зеленой лампы» самое интересное — антракты и кулуары, как мы называли литературные встречи и разговоры. Сегодня здесь особенно много знакомых. Даже и мой большой друг Василий Алексеевич Маклаков. Мы только успели поздороваться и обрадоваться друг другу, как ко мне, решительно шагая, подошел Поплавский и произнес плачущим голосом:
— Очень прошу. Простите. На два слова. Очень нужно.
Я удивленно смотрю на него. Я с ним не в близко-дружеских отношениях, а скорее далеко-далеких. Что ему так спешно могло понадобиться от меня?
— Очень прошу, очень! — настаивает он.
Я сдаюсь и, кивнув Маклакову, отхожу с Поплавским в сторону.
— Неужели вы не могли подождать?
— Ради Бога, простите, — перебивает он, — никак не мог. Читали ли вы Джойса?
Я киваю:
— Читала. Ну, и?..
— Мне необходимо. Только вы, кажется, можете. Расскажите скорей о нем и о Прусте. Правда про усы? кота? И что все длится один день?
Он закидывает меня вопросами. Я добросовестно отвечаю на них. О Прусте: название всех томов и все имена — Сван, Германт…
— Но ведь вы перепутаете.
— Нет. нет, только скорей, ради Бога. Пробковая камера была? Сван женился на Одетте? А Джойс ирландец? И преобразовывал язык? Вы не сочиняете? Правда? Так все и было? А насчет стиля Пруста и Джойса Оцуп правильно говорил?..
Но Георгий Иванов, бессменный председатель «Зеленой лампы», уже звонит в колокольчик, объявляя заседание открытым, и Поплавский, на полуслове оборвав очередной вопрос, устремляется к эстраде.
И вот уже он плачущим, захлебывающимся от волнения и вдохновения голосом убедительно передает только что услышанное от меня, проникновенно углубляя, расширяя, преображая и украшая его «цветами своего красноречия» и словесной находчивости.
Я с изумлением слушаю его. Если бы он сам десять минут тому назад не признался мне, что не читал ни Пруста, ни Джойса, я была бы уверена, что он тщательно изучал их.
Рядом со мной сидит Николай Бернгардович Фрейденштейн-Фельзен, «Спарженька», как его окрестила Зинаида Николаевна. На одном из «воскресений» она, сквозь лорнет оглядев посетителей, собравшихся за чайным столом, обнаружила отсутствие Фельзена и недовольно протянула:
— А этот, как его… эта спаржа сегодня не пришла?
«Спаржа» действительно как нельзя лучше подходила к внешности Фельзена. Он был еврей, но до чрезвычайности походил на немца, к тому же он окончил Петершуле, немецкую петербургскую гимназию. Очень тонкий высокий блондин с голубыми светлыми глазами, он действительно походил на спаржу, и, с легкой руки Зинаиды Николаевны, его так и стали звать «Спаржа» или «Спарженька», на что он совсем не обижался.
Был он знаток и почитатель Пруста и себя считал «русским Прустом», правда, без больших прав на это. Не понимаю, почему Поплавский обратился ко мне, а не к нему, специалисту-прустианцу, за сведениями. Должно быть, из-за Джойса — им Спаржа не интересовался.
— Пруст жил, — говорит Поплавский, — в пробковой камере, в которую не доносился ни один звук из внешнего современного мира, запер в нее восстанавливаемое им прошлое, воскрешая его для бессмертной жизни…
Спаржа поворачивается ко мне и шепчет:
— Удивительно. Я и не подозревал, что он так чувствует и понимает Пруста. Какой молодец! Какая светлая голова! Я просто поражен и восхищен им. Казалось бы, я все о Прусте знаю, а он открывает мне новое. Надо будет перечитать Пруста.
Я киваю. Я тоже поражена. Я тоже восхищаюсь. Какой молодец!
И Поплавский с того вечера прослыл знатоком Пруста и Джойса, так, по всей вероятности, никогда и не удосужившись прочитать их.
В тот вечер он снова удивил меня. Мы после «Зеленой лампы» шли целой группой на Монпарнас, обсуждая блестящее выступление Поплавского, и он, упоенный успехом, был особенно оживлен, переходя от одного собеседника к другому.
Вдруг он остановился, нагнулся и поднял с земли длинный железный прут и, повертев его в руках, заявил:
— Я могу его свернуть жгутом.
— Вздор. Брось хвастаться, Бобка, — запротестовали остальные.
— Нет, сверну! Сказал сверну, и сверну! — настаивал он.
Но никто его уже не слушал. Разговор перешел на другие темы.
Поплавский отстал от группы, и никто не обращал на него внимания. Только перед самым входом в кафе «Куполь» он подбежал к Адамовичу:
— Георгий Викторович, смотрите, я свернул! — закричал он победно.
Руки его, как и голос, дрожали. Лицо блестело от пота, несмотря на то, что было холодно.
Адамович брезгливо поморщился:
— Стоило тоже! — Спортивными достижениями, кроме теннисных, он не интересовался. И Поплавский стал показывать свернутый жгут остальным.
В смерти Поплавского много неясного: естественная ли это смерть или самоубийство? Многие утверждают, что это было самоубийство. По их мнению, иначе и быть не могло. У него, как они говорили, было «лицо самоубийцы». Он стремился к самоуничтожению, он обязательно должен был трагически окончить жизнь и т. д.
Конечно, я не могу судить о том, «что было бы, если бы не было…». И не спорю о том, «стремился ли он к самоуничтожению» и была ли его трагическая судьба написана на его лице. Я только утверждаю, что он не был самоубийцей, а был убит. Вот факты, позволяющие мне говорить это.