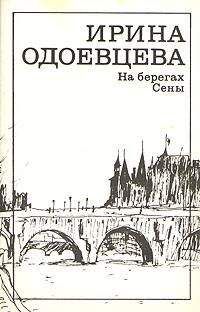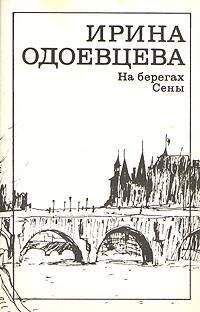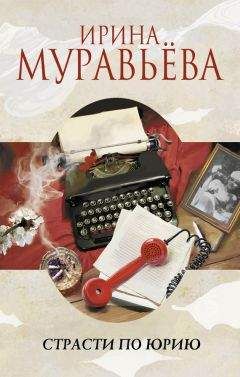— Я вернусь к обеду, беспокоиться тебе нечего.
Георгий Иванов открывает дверь. Перед ней, держа в одной руке очки, а в другой тетрадку, стоит Поплавский. От неожиданности он роняет очки и тетрадку на пол. Исписанные страницы падают к его ногам.
— Поплавский! — удивленно вскрикивает Георгий Иванов, нагибаясь за черными очками, лежащими на ковре. Ведь без них Поплавский, наверное, ничего не видит. То, что он носит очки «зря», нисколько не нуждаясь в них, «для прикрытия глаз», еще неизвестно Георгию Иванову.
У Поплавского совершенно растерянный вид. Все это так забавно, что я не могу удержать смех.
— Что же вы тут стояли и не звонили? — спрашиваю я смеясь.
— Я, — почти плачущим голосом объясняет Поплавский, — уже давно тут стою. Больше получаса. Пришел слишком рано. Боялся позвонить. Не мог…
Наконец все страницы подобраны, и мы с Батаем уходим.
В тот вечер я, как всегда, опоздала к обеду, но Георгий Иванов даже не ворчал. Он взволнованно начал читать мне отрывки стихов Поплавского:
— Послушай, это удивительно талантливо, хотя и сильно смахивает на Рембо.
Приходите к нам в гости,
Когда мы уйдем…
……..
Не занимайтесь моими следами
Ветру я их поручаю стереть…
С этого дня Георгий Иванов, открывший много молодых талантов, в том числе и Смоленского, серьезно занялся Поплавским. Для начала он выдержал бой с Адамовичем, тогда еще совершенно не признававшим стихи Поплавского, и повел его к Мережковским.
Зинаида Николаевна хорошо приняла его, и он вскоре сделался желанным гостем на «воскресеньях». Выяснилось, что он замечательный оратор. Лучший даже, чем «златоуст эмиграции» Адамович.
Конечно, ни его, ни Адамовича я «святотатственно» не сравниваю с «самим» Мережковским — действительно ни с кем не сравнимым. Впрочем, оратором Мережковского назвать трудно. Такое определение к нему не совсем подходит — в особенности когда он не произносит тщательно обдуманный доклад, а импровизирует в «Зеленой лампе» или на «воскресеньи», когда он, уносимый порывом дикого вдохновенья, как бы вырастает на глазах у слушателей и, кажется, поднимается в воздух над своим стулом. Он пророчествует, как библейский пророк.
Холодная дрожь восторга, похожего на священный страх, пробегает по моей спине. Я слушаю его не только ушами, но всем существом. Я не особенно разбираюсь в том, о чем он пророчествует, меня не очень интересуют вопросы об Атлантиде, о Тайне Трех или Апокалипсисе. Но я покорена, я раздавлена, я готова, не рассуждая, подписаться под его словами. В эти минуты он владеет не только истиной, но и моей волей, как и волей большинства слушателей. Очень немногие могут не поддаться его магии.
Потом, когда он кончит пророчить и превратится снова из библейского пророка в маленького сутулого старика с шаркающей походкой, слушатели снова овладеют собой и пустятся в дискуссию с ним, опровергая высказанные им тезисы.
Ведь бесконечные дискуссии — главное содержание не только заседаний «Зеленой лампы», но и «воскресений». Поплавский постоянно блистал на них.
Да, повторяю, он был прекрасным оратором. И это несмотря на чрезвычайно невыигрышную внешность — внешность слепца. Отсюда и черные очки, скрывающие его кажущиеся слепыми глаза. Он, впрочем, отлично видит. Он сам, должно быть, сознавал странное впечатление, производимое его глазами, и никогда не снимал черные очки.
Ведь глаза — зеркало души. Но его глаза вряд ли были зеркалом его души. Это были странные, неприятные глаза, производившие на многих просто отталкивающее впечатление. В них совсем не отражалась его душа — душа поэта.
Его черные очки, впрочем, были иногда и полезны. В метро и в автобусах, даже в часы наплыва, для него всегда находилось сидячее место: уступи место слепенькому.
Адамовичу в его ораторской карьере помогали его очень красивые и большие глаза, проникновенно устремленные вдаль, и его изящный петербургский подтянутый вид.
Поплавский же был мешковат, небрежно одет и на эстраде производил довольно жалкое впечатление. Голос его был гнусавый и какой-то обиженный, почти плачущий. Казалось бы, как выступать публично при таких данных?
И все же стоило ему бочком взобраться на эстраду, произнести несколько плохо между собой связанных слов, тряхнуть головой и выпрямиться, как речь его уже лилась неудержимо, удивляя блеском, остротой мыслей и главное — парадоксами, а иногда просто ошарашивая слушателей.
Так, он чуть ли не на первом своем выступлении в «Зеленой лампе» объявил, что скорбит об участи непосильно трудящихся, особенно о грузчиках и проститутках, чем на полвека предвосхитил свое время. Его заявление возмутило многих в те далекие времена.
Умел он и возбуждать у дам не только улыбку, но и негодование «огнем нежданных эпиграмм» и парадоксов. Так, на одном из «воскресений» у Мережковского присутствовали гости из Москвы — супруги «рыбьи профессора», написавшие много книг о рыбах и пожелавшие посетить светочей, «великих борцов за свободу» Гиппиус и Мережковского.
Поплавский, пользуясь короткой паузой, перебивая Зинаиду Николаевну, громко заявил, что свобода несет горе и беды и что ее следует заменить прекрасным рабством, так как рабы наисчастливейшие люди на земле, что в России надо восстановить крепостное право и подарить мужикам счастье рабства.
«Рыбьи профессора» испуганно заморгали, стали смотреть на часы, встали из-за стола, ссылаясь на то, что их ждут, очень ждут, и они уже сильно опаздывают.
Уговоры Зинаиды Николаевны не уходить остались без результата. Они не уходили, а бежали в полном расстройстве чувств. Подавая пальто «рыбьей профессорше», Злобин разобрал, как она про себя шептала, как бы в забытьи: «Господи, и это эмиграция! Какие страшные зубры! О Господи!» — о чем он, вернувшись в столовую, и рассказал со смехом.
Конечно, Зинаида Николаевна отчитала Поплавского за его неприличную выходку, но больше для виду. Ему, первому из молодых поэтов — к тому времени он уже успел им сделаться — многое было позволено, даже слишком многое.
Поплавский с легкой руки Георгия Иванова и при «попустительстве» Адамовича молниеносно вознесся и стал в первом ряду молодых поэтов.
Молодыми поэтами считались те, кто начал свою поэтическую карьеру уже за рубежом, хотя некоторые были старше «маститого» Георгия Иванова и даже Адамовича.
Но Поплавский был действительно молод. Родился он в 1903 году и учился, вернее, недоучился в Константинополе. Грамотно писать он ни на одном языке так и не выучился, и рукописи его пестрели просто чудовищными ошибками.
Но отсутствие грамотности, как известно, не помеха таланту. Гумилев был почти так же безграмотен, как и Поплавский.