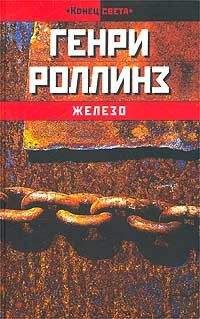21 апреля. Вашингтон, округ Колумбия: Очередь в киоске не кончается. Девушки здесь – с самого открытия, чтобы оказаться первыми в очереди, но у них не получается. Я раздаю автографы и пожимаю им руки и смотрю в их камеры. Я больше никто в эти дни. Я не знаю ничего другого. Жара на концерте такая, что не передать. В какой-то момент мне перестаёт быть просто жарко, и я становлюсь самим жаром, и только после этого могу играть. Доходит до того, что больно именно так. Во время джема я сочинил песню. Мне бы хотелось, чтобы ты меня любила, так почему же ты не любишь меня? Вот так сразу она и получилась. Снаружи льёт, и я думаю, как я спасался сегодня вечером в машине своего друга. В какой-то момент мне просто нужно удрать от всех голосов и вопросов – в надежде, что они поймут. Тут всё бесконечно. Они меня не знают, а я не знаю их, и другого пространства мне не нужно. Сегодня вечером в гримерке мерещилась мамочка. Я вышел и сидел, дрожа, на лестнице. Не хочу никого знать, сама мысль, что я вообще кого-то знаю, – ложь, с которой я не соглашусь.
28 апреля. Атланта, Джорджия: У меня не разрабатываются ноги. В киоске я делаю всё, что могу. Мне дают всякие вещи, и я обещаю сделать всё, что могу, – прочту, послушаю и всё это использую. Если б они знали, какие слова вертятся у меня в голове. Однако чётко сформулированные слова у меня не вырвутся. Я стою, словно какой-то мальчишка, ожидающий, что ему сейчас влетит. Интересно, застрелят ли меня когда-нибудь на таком сборище. Слышу, как эти девушки говорят: «Ах, боже мой, это он». Я понимаю, что они говорят обо мне, и мне хочется отдать им свои лёгкие – лишь бы сбежать через чёрный ход магазина. Сегодня я буду играть жёстче, чем вчера. Я помню наши предыдущие концерты в этом городе. Все просто стояли и смотрели. На этот раз они знают все слова, и танцуют, а одну из своих женщин они даже отправили на сцену – потрогать раненого зверя.
4 мая. Меномони, Висконсин: Огромное небо, всё в тёмных тучах. Отель невесть где. Мне нравится. Меня всё равно найдут. Позвонят в номер и пригласят зайти. Я уклоняюсь от них, как только могу. Сижу в ресторанчике через дорогу и слушаю тихий рокот дальнобойщиков в секции для курящих. Лучше, чем полные огня улицы, что я оставил в Лос-Анджелесе. Единственный плюс – я продолжаю двигаться. Двигаться мне нужно, как дышать. Тем, кто не чувствует этого, никакие объяснения не помогут. Я люблю страну больших небес. Ночной воздух свеж. Сегодня зал был переполнен. Я говорил им правду. Я вывернулся наизнанку, и мы смотрели, как мои кишки дымятся в свете рампы. Я вырвал свои внутренности и запихнул их обратно к концу вечера. Я возвращаюсь в номер и жду, когда мы двинем в следующий город. Меня это устраивает. Больше всего мне хотелось бы уже ехать в другой город. Сколько их отцов вышибли себе мозги? Сколько сыновей вернулись в этот город из каких-то дымящихся джунглей с американским флагом над их останками? Сколько изнасилований, сколько разбитых сердец? Что происходит в таком городишке, если кого-нибудь убивают? Я сижу в освещённой коробке, за окном автостоянка. Через дорогу – закусочные и мелкое отчаяние.
6 мая. Кливленд, Огайо: Всё плоско, и грязь прилипает. Сколько раз я бывал здесь. Останавливался у одной девушки, а её приятель, который меня ненавидел, втыкал джанк в соседней комнате. Ещё один город у меня как кость в горле. Ещё одна волна плоти у меня перед носом. Жарко. В одежде я потею. Я пожимаю им руки. Город ждёт за дверями зала. Ещё один вечер на тропе. Ещё один город в моей жизни. Я не хочу знать их так, как они хотят знать меня. Так никогда не получается. Я забываюсь от такого несчастья, что вы бы не поверили. Я не могу перевести.
28 мая. Лос-Анджелес, Калифорния: Воображаю, как смотрю на себя из глубины зала. Я вижу человека с ведром своей требухи, и он швыряет её куски публике. Ведро кажется бездонным. Внутренности, кажется, никогда не кончатся. Мне жаль парня, потому что я знаю: когда ведро всё же опустеет, и он сойдёт со сцены в подвал и услышит над собой стук каблуков зрителей, выходящих из зала, он опустит голову и увидит, что его ботинки в крови. Он заглянет себе под рубашку и поймёт, что кишок у него уже не осталось. В смущении он будет пожимать руки людям, которые почему-то окажутся с ним в комнате. Он ничего не чувствует к этим людям, потому что в нём нет вообще никаких чувств. У него нет чувств ни к себе, ни за себя. Он бездумно роняет слова. Те выпадают из него, а он отчаянно старается сделать так, чтобы эти люди, которые что-то говорят его пустому остову, спокойно себе думали, что это как-то заставит его что-нибудь почувствовать. Скоро они уходят, и он остаётся здесь один. Он один – так же, как несколько минут назад, когда перед ним стояло столько народу. Он выходит из театра и проходит неузнанным мимо людей, которые ждут встречи с ним. Им казалось, что он намного больше, чем среднего роста и телосложения человек, что быстро проходит мимо, сломанная машина на двух ногах. Он возвращается в комнатку и ждёт наступления сна. Звонит телефон. Тот, кого он не знает, как-то раздобыл его номер. Незнакомец говорит, что был на его концерте. Он спрашивает незнакомца, этого человека, что болтается где-то на другом конце витого чёрного провода: «Я был ничего?» Незнакомец говорит, что да. Он вешает трубку и отключает телефон. Он чувствует, что он один в целом мире, такой далёкий, такой кошмарно отдельный. Он знает, что вся боль и кровопролитие мира не дадут этому выхода. Он проснётся через несколько часов, и снова будет полон злобы, и жёлчи, и требухи, и придётся искать другое место, чтобы выпустить их наружу, пока давление не стало слишком сильным.
31 мая. Берлин, Германия: Сижу в уличном кафе, разглядывая то, что осталось от КПП «Чарли». Некоторые части Стены всё ещё стоят. Сейчас выглядят преглупо: типа, не понимаешь, почему вообще её так долго не могли снести, и ты знаешь почему, и всё-таки… Маленькие раскрашенные модели Стены выставлены в сувенирных лавках. Солнце садится, и мы с ней говорим о том, как выбраться из Америки живыми. Она теперь живёт здесь, и у неё нет причин возвращаться. Я думаю об Америке, и та постепенно превращается в полный ужаса убийственный самолёт. Кровь, стекло и иголки. Обман и горе. Больше Смерти, намного больше. Слишком велика, чтобы возвращаться в неё, – это последнее, что хотелось бы сделать. Солнце исчезает, и вокруг нас сгущается ночь. Одна из тех великолепных ночей, что всегда здесь бывают. Я слушаю про её соседку по квартире, она с Востока. Её брат прослушивал её телефон, чтобы сдать её государству. Непонятные люди – те, кто знает, как пользоваться родством к своей выгоде. Вроде бы никогда тебя не выдаст, он же твой брат. Ещё как выдаст. Твой брат – человек. И твоя мать тоже. Как насчёт места, куда можно было бы прийти, заплатить немного денег и сидеть с кем-то вдвоём в комнате, и доверять этому человеку полностью, а потом через некоторое время уходить с чувством, что на самом деле есть человек, на которого полностью можно положиться. И тебе было бы хорошо, потому что ты за это заплатил. Я не доверяю никому и не прошу ни о чем никого, кому я не заплатил. А вы? В какую же срань мы все сейчас вляпались.