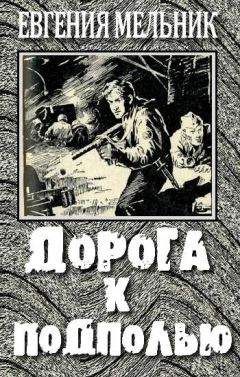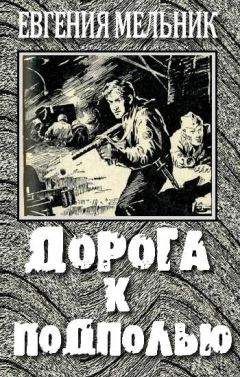Мама умолкла, а я долго думала, кто же были эти десять моряков-командиров. Не с нашей ли они батареи? Никто не знает имен погибших героев. Не о них ли неизвестно кем сложена Песня на мотив «Раскйнулось море широко»? И хотя эту песню я услышала позже, но именно сейчас мне хочется привести ее слова:
…
За нами холодное море,
И рвутся снаряды вокруг,
Дымится в развалинах город,
Сжимается вражеский круг.
Не в силах мы город родной отстоять.
Мы ходим в крови по колено.
Подкошенный пулей, свалился мой брат,
Никто не прибудет на смену.
Так значит, товарищ, нам здесь умирать,
Умрем же в бою, как герои!
Ни шагу назад, нам нельзя отступать,
Пусть нас в эту землю зароют.
Мы долгие месяцы дрались в кольце,
За свой Севастополь сражались,
Дома эти, улицы, камни его
Недешево немцу достались!
Прощай, Севастополь, наш город-боец!
Прощайте, орлята-ребята!
Патронам в обойме подходит конец,
Одна лишь осталась граната.
Пускай мы погибнем в неравном бою,
Но братья победы добьются,
Взойдут они снова на землю свою,
С врагами сполна разочтутся,
Пусть знают враги и запомнит весь мир —
Россия горда и сильна.
Как в море никто не достанет до дна,
Так не будет здесь власти врага.
Так яркое солнце нельзя потушить,
Так шторм успокоить нет силы!
Не будут враги в Севастополе жить,
Он станет им только могилой!
Пророческие слова у этой песни, родившейся в фашистском плену!
На нищем ложе из камней, досок, старых подушек и лохмотьев, подаренных знакомыми, — теперь почти такими же нищими, как и мы, — лежала я день за днем в курятнике, уставив глаза в серые, корявые, покрытые пылью стены. О чем я думала? Тяжелые мысли бродили в моей голове, я все еще не могла уйти с 35-й батареи и в думах своих находилась там. Чувствовала себя мертвой среди живых. Где-то на далеком Кавказе существует жизнь, туда ушла моя Родина. Что делать с собой, куда себя девать, как жить?
Во дворе на камнях увидела книгу — рассказы Станюковича, наугад раскрыла и попробовала читать. Переживания офицера, его любовная история с какой-то туземкой показались непонятными, ничтожными. Я закрыла книгу. Нет, не могу читать! И опять мысли: как жить в атмосфере, отравленной вражеским дыханием? А сколько же надо терпеть?
Сейчас наши отступают, потом соберутся с силами и начнут наступать. Отбирать обратно все, что заняли немцы, будет нелегко. Два года, — решила я. И надо запастись терпением, большим терпением, ведь только началось. Умереть, не дождавшись освобождения, было бы ужасно.
Я встала, вышла во двор и сказала маме и папе:
— Думаю, что терпеть придется не меньше двух лет. Надо уходить из Севастополя, иначе мы умрем от голода. И я не хочу находиться здесь в осаде вместе с немцами!
А небо над Севастополем как будто рыдало: его затянуло черными тучами, потоки дождя обрушились на землю.
Мы спали в курятнике. Мама начала проявлять хозяйскую энергию: соорудила постели, положив доски на пустую бочку и подставку из камней. В бочку она складывала старье, подаренное знакомыми. Раздобыла иголку, нитки и принялась за шитье одежды для маленького Жени.
Мы сразу упали на самое дно нищеты: ни гребешка, ни куска мыла и даже крыши над головой нет. Целую неделю лили дожди, мы тонули в своем курятнике. Пришлось заняться крышей и уложить получше кое-как наброшенные друг на друга ржавые листы железа.
Водопровод в Севастополе был разбит. За водой ходили на Гоголевскую улицу или на вокзал. Мы вставали еще до рассвета, брали у соседки ведра и шли в очередь, где простаивали по шесть часов. Иногда я опускалась в колодец, наливала и подавала людям воду, за что получала право через двадцать ведер наполнять свои. Вылезала мокрая с ног до головы. Я все еще пила много воды, но чувство мучительного голода не оставляло теперь ни на одну минуту. Мы голодали. Ломоносова продолжала поддерживать нас: то даст немного сухарей или муки, то нальет поллитра молока. Мы делили пищу на такие порции, которые можно было бы взвешивать на аптекарских весах. Единственное, что в Севастополе было в изобилии, — это топливо: щепки, обугленные балки, перегоревший антрацит на местах бывших сараев. Топливо рядом, только варить нечего!
Оставшиеся в живых жители Севастополя были похожи на выходцев с того света: худые, оборванные, грязные, голодные, с потухшим взглядом глубоко ввалившихся глаз. Начались желудочные заболевания. Мы тоже переболели, а некоторые умирали. Очень многие жители были обожжены или ранены. Истощенные организмы отказывались бороться с болезнью: простой волдырь на пятке, царапина на пальце мокли, гноились, не заживали.
Как-то я встретила краснофлотца с нашей батареи, переодетого в штатское. Он сказал, что решил с двумя товарищами пробираться на Украину и дальше к линии фронта, предлагая и мне идти с ними. Если бы я была одна!
Где достать пищу? Я ходила с Женей к морю, залезала по горло в воду и с остервенением обрывала ногтями мидии, крепко приросшие к подводным скалам, пока окончательно не замерзала. Крупные ракушки давно содраны такими же «рыбаками», как я, да и маленьких осталось немного. Улов был невелик. Крохотные, нежные тельца моллюсков казались нам необычайно вкусными, как курятина. Мама варила из них суп, но этого супа было чересчур мало.
И опять я часами лежала на спине в курятнике, глядя все на те же серые, запыленные камни.
Как-то вспомнила об Антонине Ивановне и ее муже. А Мария Тимофеевна Тимченко, по прозвищу «Мать»? Что с ними, живы ли? Надо найти их.
Когда я пришла на улицу Константина, меня удивил высокий забор из свежеоструганных досок. Он тянулся откуда-то с горки, закрывая входы во дворы и улицы, примыкающие к базару и Артиллерийской бухте. Забор оканчивался за домом Марии Тимофеевны, на углу Керченской улицы. Вокруг все было завалено домашним скарбом, среди которого метались растерянные люди. Ничего не понимая, я зашла за забор в истерзанный садик. Антонина Ивановна бросилась ко мне:
— Милая Женечка, нас выселяют, сделали запретную зону и за один день построили этот забор. Пришли немцы, крикнули «вэг!» и в пять минут выгнали всех. Сюда больше нельзя заходить. Некоторые все же пошли за своими вещами и были убиты… Сейчас у немцев обед, но они могут вернуться каждую минуту…
Я взялась помогать. Минут за десять мы перешвыряли через забор все мягкие вещи, вынесли даже кровати, и трюмо, хотя Антонина Ивановна и протестовала: