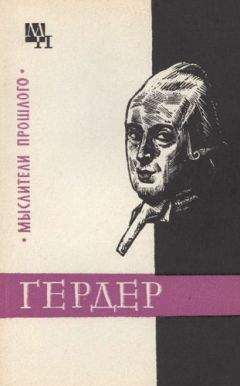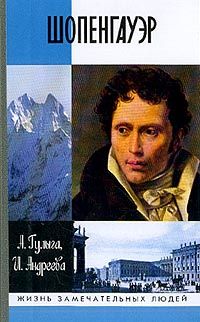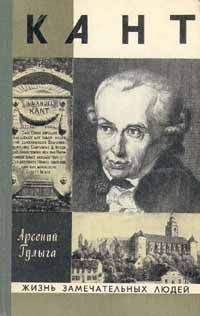Представления о возвышенном претерпевают изменения даже на протяжении жизни одного человека. Приходя в школу, ребенок полон возвышенного преклонения перед непонятной азбукой, грамматическими правилами и т. д., постигаемыми им с трудом. У взрослого, образованного человека иные представления о возвышенном.
Возвышенное для Гердера не есть нечто иррациональное, оно поддается научному анализу, который убеждает прежде всего в том, что возвышенное связано с мерой. Критикуя кантовское понимание этой категории, мыслитель отмечал, что безграничное, безмерное не может вызывать в человеке подлинно возвышенных чувств. Эти чувства не возникают, например, от созерцания безграничного пространства. Глядя в пропасть, мы испытываем чувство страха. Говорят о «возвышенном трепете», но это, по мнению Гердера, неправильное словоупотребление. Вообще слово «возвышенное» часто употребляют в значении, которое к нему не относится. Возвышенное — это нравственно положительное чувство, сущность его состоит в том, что оно «расширяет наше дыхание, кругозор, стремление, поднимает наше бытие» (см. 7, стр. 220).
Возвышенное тесно связано с прекрасным, это — «начало и конец красоты». Взаимосвязь возвышенного и прекрасного Гердер показывает при анализе формулы, которая, по его мнению, раскрывает сущность искусства: «Многое в едином, единое во многом». Эта формула имеет два аспекта: с одной стороны, она выражает многообразие средств искусства, его красоту, с другой — подчеркивает в произведении искусства наличие единой возвышенной гуманистической идеи. Обращаясь к архитектуре, Гердер отмечает: «Там, где сильнее впечатление единого, здание представляется нам возвышенным, где нас больше занимает многое, — прекрасным» (7, стр. 225). Собор св. Петра превосходит по своим размерам Пантеон, однако последний производит более возвышенное впечатление простотой и единством своего построения, в то время как первый нравится пышностью своих форм.
Основная характеристика возвышенного — мера. Это можно проследить также на примере нравственности. Нигде преувеличение, по мнению Гердера, не является таким опасным, как в морали; кто неумеренно морализует человечество, тот развращает его; перенапряжение приводит к распаду. Проповедь безусловной свободы, безусловного долга — просто напыщенная болтовня. Гердер критикует формализм кантовской морали, ее претензию на установление всеобщих и вечных норм, он удачно подмечает, что не поступки создают этические законы, а, наоборот, человек ведет себя в соответствии с определенным существующим порядком. Этот порядок, однако, кажется Гердеру естественным, он не видит его социального, классового содержания. К тому же прославление меры как определяющей особенности возвышенного у Гердера иногда переходит в проповедь умеренности, малых дел. Не случайно в начале «Каллигоны» содержатся знаменательные слова: «Мы надеемся, что времена революции прошли» (7, стр. XII). За два десятилетия до этого Гердер разделял революционные настроения. Он прославлял искусство, служившее оружием свободы против угнетателей, поэзию, которая принимала живое участие в политической жизни эпохи. С одобрением он отмечал, что «во время религиозных волнений XVI в. песнями сражались не хуже, чем писаниями, особенно если они затрагивали князей и общественные дела» (3, стр. 75). Все это, однако, изменилось с годами. «Политика, прочь из области муз!» — восклицает стареющий Гердер. Якобинская диктатура, которую он не понял, насторожила его, а поражение революции окончательно привело его к ошибочной мысли о бесцельности революционного пути. Отсюда и понимание возвышенного как нравственного, но «осуществимого» действия.
Отказ от революционного образа действия не означал, однако, потери духа демократизма, которым всегда было отмечено творчество Гердера. В «Каллигоне», как и в других своих работах по эстетике, Гердер развивает идеи о народном характере всякого подлинного искусства. Понимание народных, национальных корней искусства помогло Гердеру подняться выше Канта и в подходе к поставленной последним проблеме антиномии вкуса. Кант видел неразрешимое противоречие в том, что каждый человек имеет свой индивидуальный вкус и наряду с этим существует общая для всех единая эстетическая оценка; с одной стороны, о вкусах не спорят, а с другой стороны, о них надо спорить.
Гердер прежде всего показывает, что единого, неизменного вкуса не было и не может быть. Каждый человек — сын своего народа, а эстетические представления народа определяются совокупностью условий его жизни. «Спорить с влюбленным негром об идеале красоты, с турком — о ценности итальянской музыки, с китайцем — об европейских церемониях значило бы попросту терять время и силы» (7, стр. 175). Стремясь подчеркнуть своеобразие культуры того или иного народа, Гердер, конечно, впадает в преувеличение. Однако его мысли о национальной, исторической обусловленности эстетических представлений ценны и плодотворны. К тому же Гердер далек здесь от релятивизма; национальный вкус для него вполне четкая категория.
Носитель национального вкуса — народ; в иной бедной хижине больше вкуса, чем в роскошном дворце. Вкус проявляется не только в так называемых изящных искусствах, но буквально во всем, в любом предмете деятельности человека. Вкус воспитывается и развивается.
Воспитатели вкуса — художник и критик. В анализе художественного произведения недопустимы произвольные, субъективные оценки. Гердер придавал большое значение научно обоснованному разбору произведений искусства. Справедливая оценка, подчеркивал он, может быть дана только в том случае, когда известно, что было раньше сделано в данной области. Науки и искусства требуют такого судьи, который, обладая необходимыми знаниями, мог бы беспристрастно высказывать свое мнение. Только подлинный знаток, мастер имеет право голоса, дилетант, недоучка должен молчать. Перед большим талантом критика должна склоняться, даже его ошибки требуют к себе уважения. Мелкая душа видит только недостатки, вдумчивый критик замечает новое, прекрасное, доброе. Право на порицание дается только тому, кто может указать путь к устранению ошибок.
Один из историков культуры XIX в. пришел к выводу, что учение Гегеля «является не чем иным, как переложением доктрины Гердера на язык метафизики» (15, стр. 74). Это заявление звучит парадоксально, тем более что сам Гегель никогда не называл Гердера в числе своих учителей и, судя по тому, что в своих «Лекциях по истории философии» не посвятил ему ни строчки, вообще не считал его мыслителем, достойным внимания, и тем не менее знакомство с творчеством обоих философов убеждает в их несомненной идейной близости.