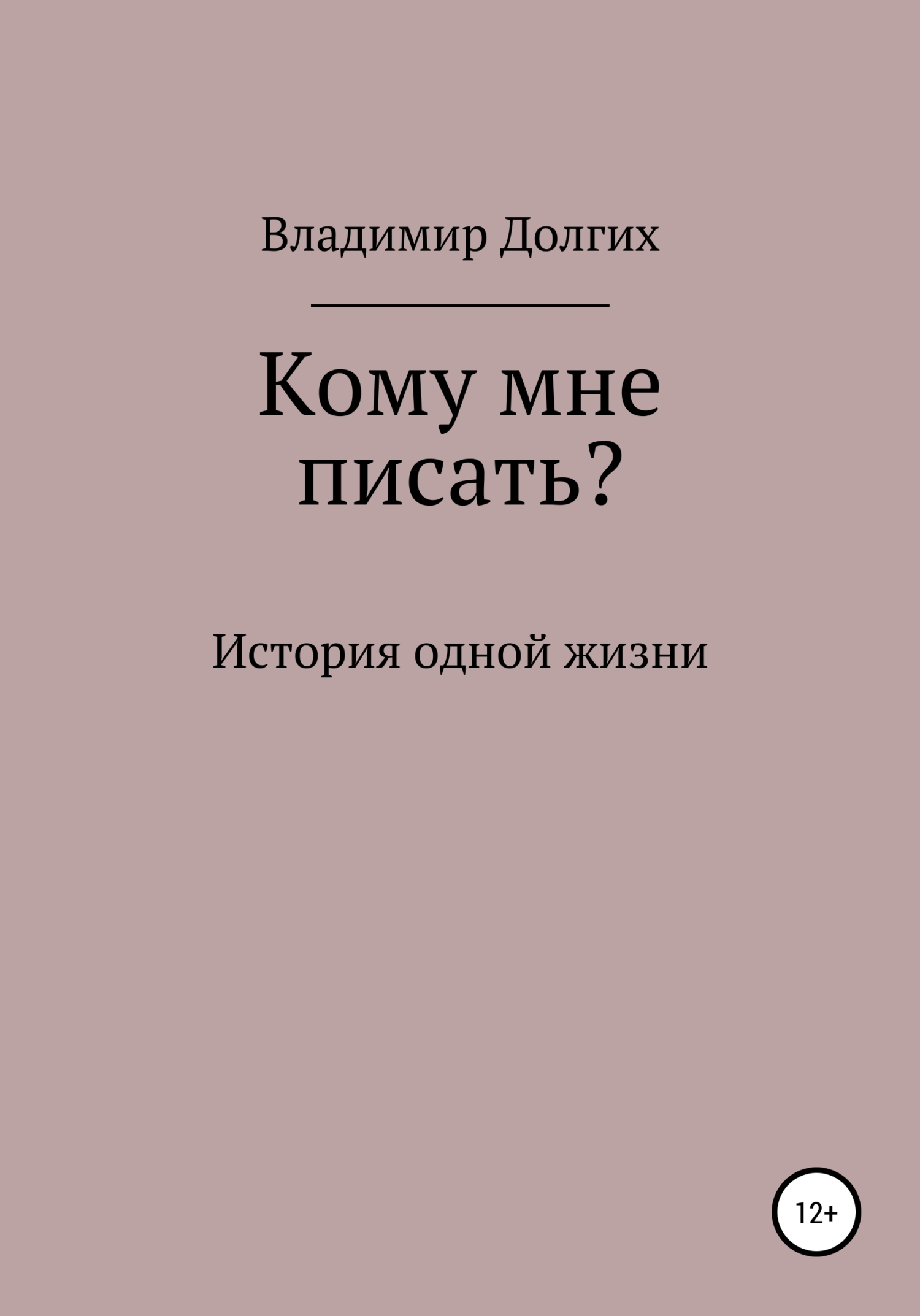свои сорок сантиметров и аккуратно помещается в утробу. Как только резина снова затвердевает, ее острые углы прокалывают кровоточащую слизистую, отчего матка сокращается и плод постепенно исторгается вместе с мембраной. Если только сам катетер не выходит первым. И если он не пронзает стенку матки.
Занимало это дело пятнадцать часов и стоило сорок долларов – моя зарплата за полторы недели.
В тот день я отправилась в квартиру миссис Муньос, отработав в офисе доктора Саттера. Январская оттепель миновала, и, хотя был всего час дня, солнце не грело. Зимняя серость середины февраля и темные проталины на грязном снегу верхнего Ист-Сайда. Я прижимала к бушлату пакет с резиновыми перчатками и новый ярко-красный катетер, который Энн раздобыла в больнице. Там же лежала прокладка. Еще я прихватила с собой большую часть денег из моего последнего конверта с зарплатой плюс пять долларов, одолженные у Энн.
– Дорогуша, снимай юбку и трусики, пока я тут всё прокипячу, – миссис Муньос достала катетер из пакета и обдала его кипятком в неглубоком тазу. Я сидела, обхватив колени руками, на краю широкой кровати, стесняясь своей полунаготы перед незнакомкой. Она натянула тонкие резиновые перчатки и, поставив тазик на стол, посмотрела на меня, зажавшуюся в углу опрятной, но обшарпанной комнаты.
– Ложись, ложись. Боишься, да? – она смотрела на меня из-под чистой белой косынки, почти полностью охватывавшей ее маленькую голову. Волос не было видно, поэтому по ее лицу с острыми чертами и ясными глазами не было понятно, сколько ей лет. Она выглядела настолько молодо, что я удивилась: неужели у нее настолько взрослая дочь, что работает медсестрой?
– Боишься? Не бойся, милая, – сказала она, подхватив тазик краем полотенца и передвинув его к другой стороне кровати.
– Теперь ложись и поднимай ноги. Нечего бояться. Пустяк – я бы такое и со своей дочерью проделала. Если бы у тебя был срок три, четыре месяца, было бы сложнее и дольше, понимаешь? Но у тебя срок маленький. Не волнуйся. Сегодня-завтра, может, поболит – ну вот как при месячных живот, бывает, тянет, только посильнее. У тебя такое случается?
Я кивнула, онемев и стиснув зубы от боли. Но она пристально смотрела на свои руки, которые что-то делали у меня между ног.
– Ты тогда аспирина прими или выпей чего-нибудь – только немного. Когда всё будет готово, трубка выйдет, а за ней и кровь потечет. И всё, нет ребенка. В следующий раз стереги себя, дорогуша.
Заканчивая говорить, миссис Муньос успела ввести длинный тонкий катетер через шейку в матку. Боль оказалась резкой, но мгновенной. Скрученный спиралью катетер находился внутри меня, словно безжалостный благодетель, и готовился проткнуть тонкую слизистую и кровью смыть мои тревоги.
Так как для меня любая боль невыносима, даже этот короткий приступ казался бесконечным.
– Видишь, вот и всё. Не так уж страшно, правда? – она ободряюще похлопала меня по дрожащему бедру. – Всё готово. Теперь одевайся. И прокладку подсунь, – предупредила она, стягивая резиновые перчатки. – Через несколько часов пойдет кровь, тогда надо будет прилечь. Перчатки тебе вернуть?
Я покачала головой и отдала ей деньги. Она поблагодарила.
– Со скидкой, потому что ты подруга Энн, – улыбнулась миссис Муньос и помогла мне надеть пальто. – Через сутки в это время всё уже будет позади. Если вдруг проблемы какие-то – звони. Но не должно ничего быть, только боль как при месячных.
Я вышла на Западной 4-й улице и купила за восемьдесят центов бутылку абрикосового бренди. Был канун моего восемнадцатого дня рождения, и я решила отпраздновать избавление. Всё, что от меня требовалось теперь, – испытать боль.
Пока медлительный субботний поезд, делавший все остановки, вез меня в мою меблированную комнату на Брайтон-Бич, начал ныть живот, и спазмы постепенно усиливались. Всё теперь будет хорошо, уговаривала я себя, слегка наклонившись вперед. Мне бы только пережить эти сутки. Я смогу. Она сказала: никаких рисков. Худшее позади, и, если что-то пойдет не так, я всегда могу обратиться в больницу. Скажу, что не в курсе, как ее звали, и что меня на место привели с завязанными глазами, чтобы я не узнала адреса.
Больше всего меня пугали размышления о том, насколько сильной будет боль. Я не думала, что могу умереть от потери крови или проколотой матки. Ужас вселяла только боль.
В вагоне метро почти никого не было.
Предыдущей весной примерно в это время как-то субботним утром я проснулась в материнском доме и почувствовала запах бекона, который жарили на кухне. И тут же поняла, когда открыла глаза, что сон, который мне снился о том, как я рожаю девочку, был лишь сном. Я подскочила в кровати, глядя в окошко, выходящее на вентиляционную шахту, и плакала, плакала, плакала от разочарования, пока мать не вошла узнать, что случилось.
Поезд выехал из тоннеля над бесцветным краем южного Бруклина. Шпиль аттракциона «Прыжок с парашютом» в Кони-Айленде и гигантский серый газовый резервуар выделялись на свинцовом горизонте.
Я позволила себе испытывать сожаление.
В ту ночь около восьми вечера я уже лежала, свернувшись клубком, на кровати и пыталась отвлечь себя от режущей боли внизу живота, размышляя, не покрасить ли волосы в угольно-черный.
Я и помыслить не могла о том, как сильно рисковала. Но собственная смелость меня поражала. Я смогла. Оно оказалось даже более мощным, чем уход из дома, – это свершение, от которого у меня раздирало нутро и умереть от которого я могла, но не собиралась. Это свершение было переходом от безопасности к самосохранению. Выбор между видами боли. В этом и заключается жизнь. Я держалась за эту мысль и старалась чувствовать одну лишь гордость.
Я не сдалась. Я не пялилась тупо в потолок, не выжидала, пока станет слишком поздно. Им меня не одолеть.
Кто-то постучал в выходящую в проулок калитку, и я выглянула в окно. Моя школьная подруга Блоссом уговорила одну из наших учительниц отвезти ее ко мне, чтобы проверить, всё ли «окей», а заодно подарить мне бутылку персикового бренди на день рождения. Я с ней делилась своей бедой в поисках совета, и та советовала не делать аборт, а оставить ребенка. Я не стала ее огорчать и рассказывать, что для Черных младенцев приемных родителей не найти. Таких детей либо оставляли в своих семьях, либо бросали, либо «отказывались» от них. Но никто их не брал. Тем не менее я поняла, как сильно она волновалась, раз отправилась из Квинса в Манхэттен, а потом на Брайтон-Бич.
Это меня тронуло.
Мы говорили о всякой чепухе. Лишь бы не о том, что творилось у меня внутри.