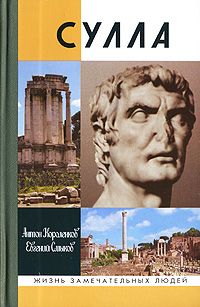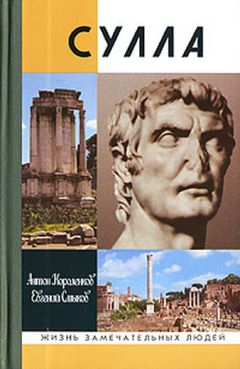Впрочем, и здесь сквозит недоброжелательство недругов Мария[426] – он-де хотел лишь казаться умеренным, а не быть им, а может, и вовсе боялся солдат Катула. Но как ни объяснять действия полководца, он все равно проявил великодушие к коллеге.[427] Очевидно, победитель кимвров считал его своим союзником – претензии на то, что именно он, Катул, является главным героем верцелльской баталии, прозвучат позднее. Хотя противодействия его воинов триумфу опасаться не приходилось, без нужды злить их тоже было ни к чему. Могла проявить недовольство и часть нобилитета.[428] Да и в конце концов, во время победного торжества вся слава и восторг народа все равно, надо полагать, достались Марию, а Катул выглядел лишь его бледной тенью.[429]
Обнаружил умеренность арпинат и еще в одном: ему предложили в порядке исключения справить два триумфа – над тевтонами и кимврами по отдельности, но он благоразумно предпочел ограничиться одним (Ливии. Периоха 68). Как все это отличалось от времен победы над Югуртой, когда Марий, едва вкусивший высшей славы, явился в сенат в триумфаторском облачении! Теперь он куда лучше разбирался в политике и сделал правильные выводы – нескромность сердит окружающих, особенно если они чувствуют твое превосходство.
Но до конца сохранить умеренность ему не удалось – и немудрено. Народ почитал Мария как бога. Даже те, кто прежде не любил арпината, признавали его спасителем отечества (Ливии. Периоха 68). Мария называли третьим основателем Рима после Ромула и Фурия Камилла. За трапезой ему посвящали часть яств и совершали возлияния наравне с богами (Плутарх. Марий. 27.9; Валерий Максим. VIII. 15.7). Сам полководец не отставал от своих почитателей и также уподоблял себя небожителям: подобно Либеру-Вакху, он теперь пил вино из чаши-канфары и при этом сравнивал свои победы с победами Либера в Азии (Плиний Старший. XXXII. 150; Валерий Максим. III. 6. 6). Столь откровенное стремление римского политика сблизить себя с божеством встречается в источниках впервые.[430]
Чтобы увековечить свои подвиги, Марий еще после триумфа над Югуртой воздвиг монумент, к которому теперь прибавил еще один. Кроме того, он за счет взятой у варваров добычи основал храм Чести и Доблести.[431] Катул же построил (также за счет добычи) роскошный особняк на Палатине, а также портик – на месте дома консула 125 года Марка Фульвия Флакка, разрушенного в 121 году после гибели хозяина во время гракханской смуты. И дом, и портик Катула были украшены реликвиями кимврской войны – своего рода музей боевой славы.[432] Тогда же, очевидно, он украсил двумя статуями работы великого Фидия (или даже построил) храм Фортуны нынешнего дня, которой принес обет в начале битвы при Верцеллах (Плиний Старший. XVII. 2; Плутарх. Марий. 26.2).
Победу Мария прославляли служители муз – совсем еще молодой поэт Авл Лициний Архий, грамматик Луций Плотий и, вероятно, другие, чьи имена история не сохранила (Цицерон. За Архия. 5; 19–20). О том, чтобы такой чести удостоился Катул, мы не знаем. Он решил «исправить» положение и сам взялся за перо. Что представляли собой его мемуары о кимврской войне, мы уже знаем. А вот когда они появились на свет – неизвестно. Может, всего через несколько месяцев, а может, – и лет. Уже во времена Цицерона их мало кто читал (Цицерон. Брут. 133). И только благодаря пересказу Плутарха мы получаем представление об этом образчике генеральской похвальбы, густо замешанном на зависти и недоброжелательстве.
Что же делал в это время Луций Сулла? Без сомнения, он принял участие в триумфе. Окрыляли ли его новые надежды? Или он сокрушался, что из-за бездарности Катула не смог совершить всего, что было в его силах? Или же сердился на Мария, который удалил его от себя накануне решающих событий и не дал отличиться? Никто не знает. В любом случае у него были поводы для недовольства – вся слава досталась Марию и Катулу, пусть и не в равной степени, а о нем, Сулле, по-видимому, не вспоминали. Хотя, как остроумно заметил один из биографов диктатора, на трофеях Катула можно было написать: «Дар Луция Корнелия Суллы».[433] Судя по всему, не отдал должного своему легату Катул и в мемуарах.[434] И Сулле оставалось лишь усваивать горький опыт – рафинированный аристократ и тонкий ценитель слова лишь с виду был «прекрасным человеком». Внешность, как известно, обманчива…
Глава 5 Меж двух великих войн
Последний год II столетия до н. э. запомнился не только победой над кимврами. Вновь напомнил о себе политический союзник Мария – Луций Апулей Сатурнин. В это время в Рим прибыли послы понтийского царя Митридата VI Евпатора. Сатурнин заявил, будто они дают взятки сенаторам, которые таким образом продают интересы Рима – совсем как во времена Югурты.[435] Он подверг оскорблениям и самих послов. Недруги бывшего трибуна воспользовались его несдержанностью и подговорили понтийцев подать на него в суд. Обвинители-сенаторы были настроены очень сурово, и поговаривали, что дело может дойти до смертного приговора – впрочем, вряд ли обоснованно.[436] Однако изгнание тоже вряд ли устроило бы Сатурнина – это означало серьезный удар по карьере, если вообще не крах всех надежд. Тогда он, облачившись в рубище, обратился к народу с мольбой о помощи и будто бы даже пал на колени, хватал людей за руки, обнимал их ноги и кричал, что становится жертвой несправедливости сенаторов, ибо его враги являются одновременно и обвинителями, и судьями. Большинство этих деталей, вероятно, присочинены врагами Сатурнина, но своей цели он достиг: простолюдины повалили в суд, члены которого не осмелились вынести обвинительный приговор любимцу толпы (Диодор. XXXVI.15).
Кто знает, может, именно под влиянием этих событий плебейский трибун Гай Сервилий Главция[437] выступил с проектом судебного закона. В частности, он вновь предложил полностью укомплектовывать комиссии присяжных всадниками. Как уже говорилось, такой порядок установили по инициативе Гая Гракха и частично изменили в соответствии с законом Сервилия Цепиона в 106 году, когда половина присяжных опять стала назначаться из сенаторов. По всей видимости, проект Главции обрел силу закона (Цицерон. За Скавра 2d; За Рабирия. 20; Брут. 224; Асконий. 19).
Цицерон весьма нелицеприятно отзывается о Сервилии Главции: «человек самого низкого происхождения»; «он был самым бессовестным человеком на памяти людской, но оратором тонким, ловким и на редкость остроумным» (Брут. 224); «человек порочный, но остроумный» (За Рабирия Постума. 14). В 102 году, когда Метелл Нумидийский пытался вывести из сената Сатурнина, то же он пытался сделать и с Главцией, но столь же неудачно (см. выше). Конечно, и оценки Цицерона, и выпад Метелла обусловливались политическими причинами, а потому судить о подлинных недостатках Главции, равно как и Сатурнина, не так просто. Посмотрим, каковы были их действия, которые зачастую говорят куда больше, чем пространные характеристики.