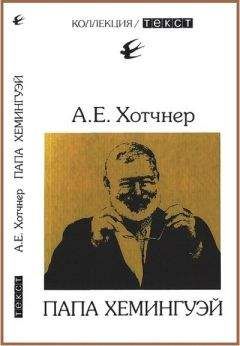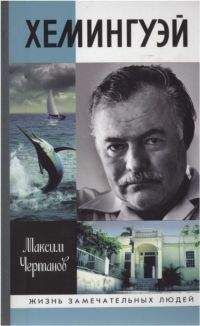Я знаю только две абсолютные истины в литературном труде. Первая — если вы занимаетесь любовью, когда пишете роман, существует опасность, что вы оставите его лучшие части в постели. Вторая истина связана с тем, что цельность автора — как невинность для женщины: однажды потеряв, ее уже никогда не восстановишь. Меня часто спрашивают о моем кредо — Боже, это слово! Ну так вот — мое кредо заключается в том, чтобы писать так хорошо, как только могу, и писать о тех вещах, которые я хорошо знаю и чувствую.
— Папа, ты часто говорил о том, что, может, когда-нибудь напишешь книгу, где действие будет происходить в Америке…
— Мне всегда этого очень хотелось, но я должен был ждать, когда умрет моя мать. Понимаешь? А теперь я уже и не знаю. Мой отец умер в тысяча девятьсот двадцать восьмом году — застрелился, оставив мне пятьдесят тысяч долларов[15]. В «По ком звенит колокол» есть один кусок… Двадцать лет мне понадобилось, чтобы смириться со смертью отца, описать ее и пережить катарсис. Больше всего меня волнует то, что я ведь написал отцу письмо и он его получил в день того рокового выстрела, но не вскрыл конверт. Если бы он прочитал письмо, думаю, никогда бы не нажал на спуск. Когда я спросил мать о наследстве, она сказала, что уже истратила на меня все деньги. Я задал вопрос — как? На путешествия и образование, ответила она. Какое образование? Ты имеешь в виду школу в Оук-Парке? А мое единственное путешествие, заметил я, оплатила итальянская армия. Она промолчала и повела меня смотреть просторный музыкальный флигель, который пристроила к дому. Ясно, на него ушла куча денег.
Моя мать была помешана на музыке и считала себя замечательной певицей. Каждую неделю она давала музыкальные вечера в салоне, построенном на мои пятьдесят тысяч долларов. Когда я еще учился в школе, она заставляла меня играть на виолончели, хотя у меня не было никаких способностей и слуха и я не мог верно спеть даже самую простую мелодию. Она забрала меня из школы на целый год, чтобы я сконцентрировал все свои силы на виолончели. Я хотел играть в футбол, а она приковывала меня к стулу. Она вечно преследовала разных музыкальных знаменитостей, стараясь зазвать их к нам в дом на свои вечера. Однажды на таком вечере я оказался на коленях у Мэри Гарден. Поскольку я был великоват для своего возраста, было не совсем ясно, кто у кого сидит на коленях.
А что касается музыкального салона, построенного на пятьдесят тысяч долларов, я получил небольшую компенсацию за мое наследство: повесил посреди этого роскошного помещения свою боксерскую грушу и тренировался каждый день, пока не покинул Оук-Парк. Больше я туда не возвращался. Прошло несколько лет, и однажды, в Рождество, я получаю от матери пакет. В нем — револьвер, из которого застрелился отец. В пакете также была и открытка, в которой мать писала, что, по ее мнению, мне хотелось бы иметь этот револьвер у себя. Предзнаменование или пророчество это было — не знаю.
Около полуночи, спустя час после того, как все остальные посетители ресторана ушли, я намекнул Эрнесту, что официанты хотят закрываться. Он начал повторять истории, которые рассказывал мне днем, — раньше за ним такого не наблюдалось, однако других свидетельств того, что он слегка перебрал, не было.
Эрнест полагал, что бутылку надо допить.
— Я был здоров, в хорошей форме, пока они не довели меня до такого состояния. Вес был двести шесть фунтов. Давление понизили до ста шестидесяти на семьдесят. Раньше было сто сорок на шестьдесят пять, но док сказал, это слишком низко. А сейчас все пошло к черту, и как можно работать? И вообще что-то делать?
— Папа, — сказал я, заметив двух падающих с ног от усталости официантов, еще остававшихся в зале, — мне кажется, они уже хотят идти домой.
— Малыш, ты должен уметь пить под испепеляющим огнем направленных на тебя взглядов или управляемых снарядов. Во время войны я устроил штаб моего партизанского отряда в сельском домишке, прямо на линии фронта. Называлось это так — штаб частей специального назначения под управлением Хема. Немцы часто посылали патрули, которые прогуливались прямо в нашем дворе. Знаешь такого художника — Джона Грота? Как-то вечером он шел к месту своего назначения и попал к нам. Во время обеда немцы обнаружили нас и открыли приличный огонь — посыпались штукатурка, стекло. Когда все утихло, Грот вылез из погреба, где прятался вместе с другими, пока вокруг летали куски штукатурки, и спросил: «Мистер Хемингуэй, как вы могли продолжать сидеть за столом, есть сыр и пить вино, когда они поливали нас таким огнем?» — «Грот, — ответил я, — если каждый раз, услышав выстрел, вы вскакиваете из-за стола, то рискуете получить хроническое несварение желудка». Ну что, допьешь свое вино?
Я отставил недопитый бокал. Речь Эрнеста становилась все более неразборчивой.
— Во время войны убили много хороших парней. Но вся прелесть нашей страны в том, что каждую минуту на этой земле рождается один хороший парень. Знаешь, как французы называют войну? Грустное ремесло — «le métier triste».
— Больше вина нет, Папа.
— Какой сейчас месяц?
— Май.
Он стал считать на пальцах:
— В сентябре у меня появится африканский сын. Перед отъездом я подарил стадо коз семье моей жены. Теперь у этого семейства больше всех коз в Африке. Приятно иметь сына-африканца. Никогда в жизни не жалел ни о чем, что сделал. Всегда жалел лишь о том, что не сделал. Боб Бенчли однажды предложил относиться к жизни легко. Потом его и меня все ругали, потому что мы никак не могли остановиться. Я сказал: «Ладно, Боб, давай остановимся». — «Когда?» — спросил он. «Когда состаримся и будем спать на ходу», — ответил я. Да, старина Боб… И Максвелл Перкинс… И Чарли Скрибнер… Мне ужасно не хватает Чарли. Черт возьми! Кто же еще остался из тех, с кем можно делать невозможное? Только ты. Все запасники опустошены, и замены не предвидится.
Он встал и направился к официантам.
— Извините, я вас задержал, — сказал он на прекрасном французском, — но так было нужно.
Он дал каждому чаевые размером в их недельную зарплату, пожал руки и вышел из зала.
Поднимаясь в гостиничном лифте, он продолжал говорить:
— Мне сказали, умер Карл Брандт. Он никогда не был моим агентом. У меня вообще никогда не было агента. Но я слышал о нем всегда только хорошее. Да, могила — очень милое и вполне безопасное место, но, лежа в ней, трудно получать свои десять процентов.
Он вышел из лифта, слегка пошатываясь. К счастью, его номер был совсем рядом, и ему не пришлось долго идти по коридору. Стоя перед дверью, он слегка помедлил, прикрыв в задумчивости глаза.