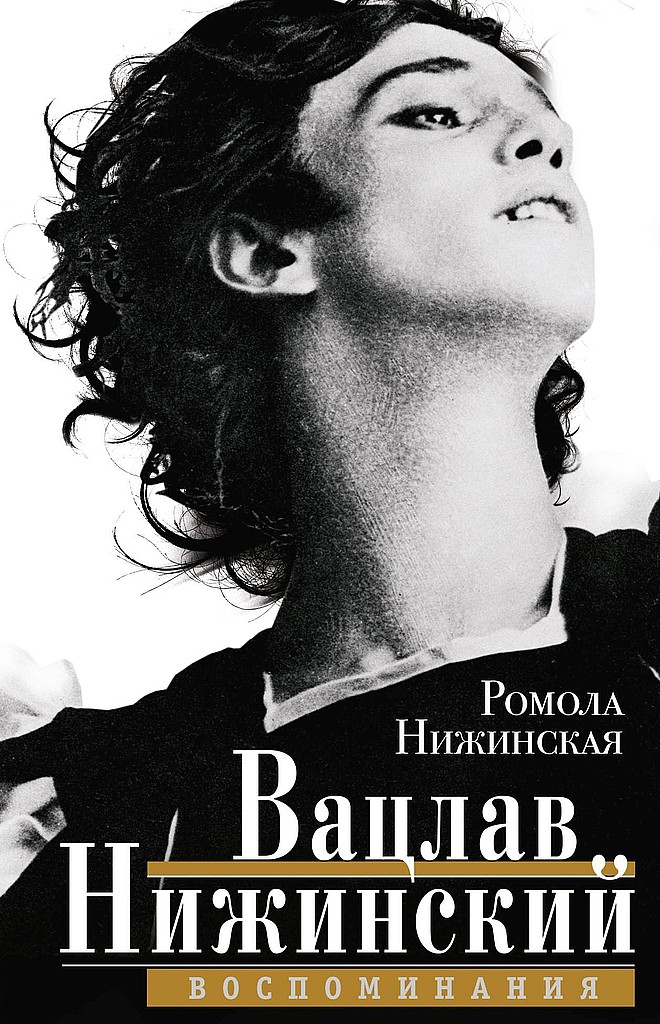движения. Тут Нижинский проводил четкое различие между движением и танцем, определяя танец как сочетание движений. Ему было ясно, что самое главное и важное — выразить идею через движение, как писатель выражает ее словами, а музыкант — нотами, расставленными на линейке. Это так ясно и просто, что трудно понять, почему раньше никто, начиная с Новерра и кончая Фокиным, не сделал это открытие. Нижинский, танцор XX века, не находил среди технических приемов прошлого подходящих для него средств самовыражения; точно так же сценический язык жестов, принятый в пантомиме, был для него бесполезен по сравнению с его собственным способом передачи мыслей.
Для Нижинского «античный танец», «средневековый танец», «классика» и «романтика» были разными школами.
Его концепция искусства танца не содержала никаких ограничений, и согласно ей существовало бесконечное множество разнообразных способов танцевать. Его первым радикальным действием стало выступление против идеи, которая особенно близка большинству из нас: он отказался от изящества, очарования, плавности и от всей классической техники. Он создал новую технику танца и показал, что классические шаги, например антраша, пируэты, тур-ан-л’эры, могут быть исполнены и без всей школы, основанной на пяти позициях. Любое мыслимое движение хорошо для танца, если оно соответствует идее, которая является его содержанием, но оно должно быть основано на имеющих точные определения технических приемах.
Таким образом, для Нижинского движение было буквально тем же, чем является слово для поэта. Вследствие этого он устранял текучие извилистые жесты, полужесты и все движения, в которых нет необходимости. Он допускал только шаги с четким ритмом и абсолютно необходимые, как в стихотворении автор использует только слова, необходимые для выражения идеи, без риторики и без цветистых украшений, существующих только ради себя самих. Он установил просодию движений: одно движение должно соответствовать одному действию. Это правило он впервые последовательно применил в «Фавне», а потом использовал во всех своих последующих работах. Впервые в истории танцевального искусства он сознательно использовал в танце неподвижность, поскольку знал, что часто неподвижность может сильнее самого действия подчеркнуть то, что происходит на сцене, точно так же, как промежуток тишины может действовать сильнее звука. Он подвел новую теорию под свои открытия в области пластической выразительности, которые до этого времени только угадывал чувствами и воображением, и сделал это потому, что в полной мере понимал: танец — это не искусство, принципы которого заданы раз и навсегда, а искусство, которое движется вперед к своей цели — отражению личности и идей человека.
Нижинский совершил переворот в искусстве танца, сформулировав для него основные принципы использования прямых линий и углов, но использовал их только как противоположность извивам и спиралям, на которых была основана вся прежняя концепция танца. Прямая линия вовсе не была конечной целью. Она была просто формой выражения, которую он добровольно выбрал, чтобы доказать, что любая линия и любой угол хороши на своем месте, и этим освободить движение. Его великим нововведением была совершенно новая техника, которую он создал, и значение этой техники не меньше, чем у более ранних техник более старых школ. В «Послеполуденном отдыхе фавна» и в «Весне священной» движения основаны на этой технике. Ноги больше не повернуты наружу с носка на пятку, с пятки на носок, как в пяти классических позициях; все классические движения тела и пять позиций перевернуты. Он показал, что то, что может вначале считаться уродливым и примитивным, способно оказаться таким же совершенным средством выражения, как те красота и очарование, которые люди воспринимают слишком легко. Он специально использовал грубые движения для того, чтобы изменить саму основу наших представлений. Любое движение может быть выполнено в искусстве; все движения возможны, если они согласуются с глубинной правдой концепции даже в самых резких и негармоничных жестах.
И Дункан и Фокин считали, что Греция — это грациозные волнистые изгибы, как на фризах Парфенона. Нижинский в «Фавне» взглянул на нее совершенно иначе. Для него Греция — это суровость аттической резьбы, простота и вера скульпторов, живших до Фидия; он противопоставил все это обаянию и элегантности работ Праксителя, а это значило — характер против изящества. Представление Нижинского об искусстве было таким: искусство — значит создавать как можно больше, используя как можно меньше простых, монументальных жестов: Фидий и Микеланджело против Праксителя и Джованни да Больнья. Балетмейстеры XIX века находились под сильным влиянием остатков греко-римской древности и потому поручали драматические роли в своих балетах артистам пантомимы, которые играли, не танцуя, а балерины танцевали, не играя. Они сосредоточивались лишь на совершенстве владения своим словарем шагов, независимо от сюжета действия и эпохи, в которую оно происходит, от декораций и костюма.
Пракситель в своих каменных изваяниях сосредоточивался на элегантности, изяществе и красоте всегда в одинаковой степени, независимо от того, был изображаемый персонаж богом, человеком или демоном. Нижинский всегда восставал против этого изящества форм ради изящества. Его целью было выразить литературную и моральную идею, и поэтому он выражал актерскую игру посредством движения.
До него в течение веков во всех балетах события сюжета происходили в такой обстановке, которая служила объяснением для танцев. Придворные праздники в балетах Петипа, «Спящей красавице», «Лебедином озере», а позже в «Армиде», гарем в «Шехерезаде», вакханалии в «Клеопатре», флирт в «Карнавале» — во всех этих случаях танец логичен и этим объясняется.
В «Послеполуденном отдыхе фавна» Нижинский впервые использовал танец как абсолютную среду, которая не нуждается в предлогах или объяснениях для своего существования. Теннис в «Играх», дела и смерть Тиля Уленшпигеля в одноименном балете не требуют танца как формы, но, несмотря на это, драма с ее кульминацией была ясно выражена средствами танца.
Эти идеи относительно искусства хореографии имели очень ясную и четкую форму в уме Нижинского. Они развивались в те годы, когда он ездил по миру, но тогда он не говорил о них никому, даже Сергею Павловичу, который только теперь узнал о желании Нижинского сочинять. Мысль о «Послеполуденном отдыхе фавна» впервые возникла у них летом 1911 года, когда они жили на вилле Шеффлера в Карлсбаде.
Нижинский взял в качестве сюжета простой случай из обычной жизни, который происходит с каждым человеком: первое пробуждение чувств и сексуальных инстинктов и реакция на них. Юноша лежит полусонный в жаркий, душный полдень; под давлением окружающей природы у него возникают неосознанные властные желания, которые он не может объяснить, но желает удовлетворить. Появляются несколько девушек, и он пытается их ласкать. Он становится настойчивее, они пугаются и убегают. Он сам не может понять, что произошло. Он обижен и разочарован. Он находит вещь,