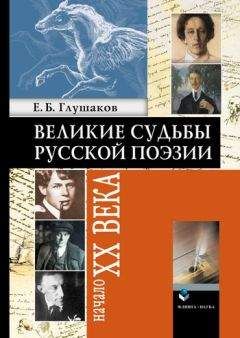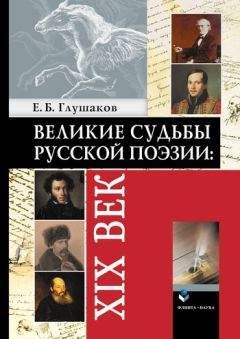Ну а крылатые строки Маяковского «Землю попашут, попишут стихи» если когда и были реализованы, то лишь в какой-нибудь запечной графомании. Истинная же крестьянская поэзия – дело иное, связанное с иной единственной и нелицемерной любовью к земле, и не пером по бумаге пишется, а сохою или плугом свои борозды-строчки выводит.
Впрочем, Клюева едва ли интересовали теоретические тонкости. Он уже давно понял, что быть «олонецким крестьянином» чрезвычайно удобно, что это его лирический герой, его тема, его ниша в русской поэзии. Что с этой позиции можно читать проповеди самому Блоку и глядеть свысока на всех прочих поэтов. Ну, а в талантливом рязанском пареньке он, скорее всего, ожидал найти будущего союзника и помощника в соперничестве с «городскими».
Между тем, приближалась советская эпоха, эпоха воинствующего невежества и «великого Хама», когда все российские поэты – без различия вероисповеданий и мировоззрений, начнут планомерно вычищаться кровавым скребком большевистской диктатуры. И страшная жертвенная судьба уже навеки соединит деревенских и городских, Клюева и Мандельштама, Есенина и Маяковского…
Ну, а пока руководимый Клюевым Есенин хаживал в голубой шёлковой рубахе с серебряным поясом, в бархатных навыпуск штанах и высоких сафьяновых сапожках. Золотистые волосы были чуть завиты. Выглядел «засахаренным пряничным херувимом». Его наперебой называли «пастушком», «Лелем», «ангелом». Женщины осаждали его с непривычной для Сергея навязчивостью и бесстыдством. Поэт даже высказывал приятелям свои опасения: «Они, пожалуй, тут все больные…»
Мода живёт слухами. И уже ходили по литературным кругам легенды об Есенине, сводившиеся к тому, что из Рязанской деревеньки притопал в Петроград кудрявый паренёк в нагольном тулупе и дедовских валенках и оказался сверхталантливым поэтом. Не без хитринки подыгрывая этим россказням, Сергей и стихи читал, аккомпанируя себе на балалайке, и говорил нарочито на «о», щеголяя местными словечками, и бессчётно исполнял похабные, на вкус просвещённой столичной публики, частушки. И, приглашаемый в самые лощёные, самые изысканные салоны, не брезговал надевать лапотки, которые в родном Константиново не нашивал отродясь.
Когда Маяковский впервые увидел Есенина в лаптях и рубахе с вышивкой, он показался Владимиру Владимировичу «опереточным», бутафорским. Сохранились воспоминания Маяковского об этой встрече:
«Как человек уже в своё время относивший и отставивший жёлтую кофту, я деловито осведомился относительно одёжи: «Это что же, для рекламы?» Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло. Что-то вроде: «Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем… мы уж как-нибудь… по-нашему… в исконной, посконной». Его очень способные, и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны. Но малый он был как будто смешной и милый. Уходя, я сказал на всякий случай: «Держу пари, что все эти лапти и петушки-гребешки бросите!» Есенин возражал с убеждённой горячностью. Его увлёк в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращённую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться».
Маяковский явился в российской поэзии несколькими годами прежде Есенина и мог взглянуть на его старания утвердиться в ней, как на нечто пройденное, знакомое. Сам Владимир Владимирович уже изрядно поварился в литературном сусле, которое во все века было и мутно, и грязно. Сумбур и шумиха капризной моды, нагловатые комплименты, площадная брань и приторно-сладкая до ломоты зубов лесть. Ну а слава, хотя и показалась Есенину в первые дни его Петроградского триумфа столь близкой, увы, ещё только брезжила.
Да и не один он такой талантливый входил тогда в русскую поэзию. Молодые: Цветаева, Пастернак, Ахматова, Северянин, Гумилёв – далеко не полный перечень волонтёров грядущего поэтического успеха. Впоследствии всем им нашлось место и на страницах школьных хрестоматий, и в сердцах любителей поэзии, и в памяти народной. Однако в ту пору не у каждого доставало терпения и мудрости, чтобы, не форсируя известность, в спокойной плодотворной работе дожидаться своего часа. Кто-то торопился выделиться, хотя бы чисто внешне, и с надрывной мальчишеской хрипотцой даже не заявить, а прокричать о себе.
Опасность подобной спешки для Есенина первым почувствовал Блок. Немногим более месяца прошло после появления молодого поэта в Петрограде, а Александр Александрович уже с тревогою предостерегал его в своём письме от 22 апреля 1915 года: «…путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы не сбиться, надо не торопиться, не нервничать». А через несколько строк добавил пророческое: «…сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унёс и чтобы болото не затянуло».
Самого Блока, известно, сдуло-таки ветром Революции, а вот его протеже было суждено сгинуть в болоте литературной богемы. Впрочем, не исключено, что Есенин постарался бы последовать совету поэта, более опытного житейски и литературно, но для этого потребовалось бы от него некое волевое начало, и воспитанием не заложенное, и в характере отсутствовавшее.
В 1916-м, после годовой отсрочки, Сергей Александрович был мобилизован и зачислен в санитарную часть, располагавшуюся в Царском Селе. Его обязанность состояла в сопровождении санитарного поезда, курсирующего между фронтом и тылом, и ведении учёта раненых. Но после того, как был он прооперирован по поводу аппендицита, поэта оставили при Царскосельском лазарете, частенько посещаемом дочерьми императора.
Ясное дело, что всякий их приход вызывал общий переполох. А они «ходят по палатам, умиляются, образки раздают». Есенина им представили, как солдата-поэта, пишущего патриотические стихи. Вот почему штаб-офицер, однажды заглянувший в лазарет, предложил ему написать нечто в честь Николая II. Сергею Александровичу, который ещё в Москве за своё сочувствие революционному движению не единожды попадал в жандармские сводки, воспевать царя, разумеется, было не с руки. Отказался. Случилось это в конце 1916-го, т. е. незадолго до того, как царь и сам отрёкся, да не только от себя, но и от своего царства.
С Зинаидой Николаевной Райх поэт познакомился в 1917 году в редакции Петроградской левоэсеровской газеты «Дело народа», где она работала секретарём-машинисткой. Были они ровесники и оба из провинции. Женитьбе предшествовала совместная поездка к Белому морю. На обратном пути Есенин сделал девушке предложение, тут же принятое. Сошли на ближайшей станции, которою оказалась Вологда, обвенчались.
Из редакции Зинаиде Николаевне пришлось уволиться. Муж настоял. Переехали в Москву. С год прожили в любви и согласии. Рожать Зинаида Николаевна отправилась в Орёл к родителям, откуда вернулась уже с крошечной Таней, до годовалого возраста которой супруги снова жили вместе. Потом разрыв. Зинаида Николаевна возвращается в Орёл. А затем, оставив дочь у родителей, опять сходится с Сергеем Александровичем. И снова расставание. Затем у них рождается сын Костя, а брак расторгается по обоюдному соглашению.