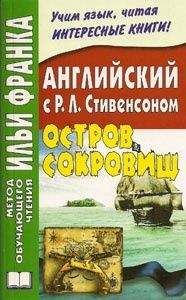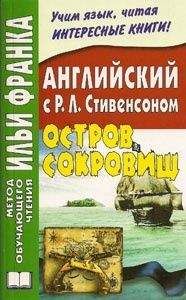И далее, в продолжение этого историко-географического рассуждения, в контексте странствия Карамзина — тогда же, в том же ментальном помещении, огороженном (городском) пространстве началось создание нового языка.
Они были прямо связаны, эти просветительские опыты, в слове — Николая Карамзина, в реальном пространстве — тульского наместника Муромцева или, к примеру в архитектуре — Николая Львова (его в данном контексте всего уместнее привести в пример). Их «огораживающие» сознание опыты производились на коротком постпугачевском отрезке истории.
Новое слово, классический русский язык явились в едва размеченном классическом пространстве России конца XVIII, начала XIX веков в том странном (ментальном) «аквариуме» с тонкими стенками, который едва не разбил разбойник Пугачев, в который вторглась наполеоновская Европа в 1812 году, в который пролилось живой воды с переводом Евангелия. И в сумме этих формообразующих обстоятельств — новое слово вышло правильно начерчено, светло и живо и вместе с тем нервно, тонкокоже, колеблемо по широте, с лицом на запад, откуда жди войны, и затылком на восток, откуда вечно веет бунтом.
Здесь, в Баловневе, нарисовалась тогда, в начале слова, юго-восточная граница русского (московского) Рима.
И вот продолжение наблюдения за этим изначальным «римским» пределом; мы смотрим на него в другую эпоху, когда он вновь проявил себя — в совершенно иных исторических обстоятельствах, но так же показательно в контексте бытия классического русского слова.
Через этот историко-географический предел в октябре 1910 года бежит на восток Лев Толстой.
То есть: этот предел вновь обозначает себя в конце слова, на излете эпохи классического русского языка, накануне очередного исторического перелома, в предвидении следующей России, следующего, «красного» Рима.
* * *
Наша экспедиция имела целью повторить последний маршрут Толстого из Ясной Поляны в Астапово. Следует признать: наблюдение пугачевских «границ» не входило тогда в наши планы. Просто, следуя за Толстым, повторяя, сколько возможно, траекторию его бегства, мы в определенный момент выехали на некий предел, обозначенный пограничным столпом собора, и определили его как предел русской (имперской) классики, нарисовавшийся по горячим следам недавнего восстания. Далее карты конца XVIII и начала XX века были наложены одна на другую: две внутренние границы совпали.
Это можно увидеть на карте. Рисунок бегства Толстого достаточно прост: он напоминает качания маятника. Сначала Толстой «вывешивает» этот маятник, движется по карте из Ясной Поляны вниз, на юг, до станции Щекино, там садится на поезд, на поезде спускается по карте еще южнее и затем, выбравшись на магистральную (широтную) дорогу, совершает на ней два больших качания: на запад и на восток.
Качания совершаются в пределах Тульской губернии, и только немного, в крайних точках, выходят за эти пределы. «Маятник» Льва Толстого как будто ударяется о невидимые стенки, за которые ему далее нет хода. Нужно помнить: Толстого в его последнем бегстве ведет не столько расчет, сколько интуиция, многократно усиленная его предсмертным страхом. Он «чует» дорогу (это слово — «чую» — он повторяет в эти дни постоянно). Эта как раз интуиция не пускает его далее определенных границ, на западе и востоке. Что такое эти интуитивные толстовские границы?
Нас интересует восточная граница: здесь, на пределе Дона, на пугачевско-екатерининской границе, обозначающей для нас начало языка, Толстой умирает, определяя тем самым — конкретно, географически — конец языка, завершение его классической эпохи.
* * *
Правый, имперский, возвышенный берег Дона, украшенный маяком собора, сохраняет пусть плавное, но все же ощутимое дыхание рельефа. Противоположный, плоский и «бездыханный» левый берег являет другую землю, безлесую, плоскую как стол. Там, за Доном — иной мир, степной, не имеющий видимого предела. И этот иной, восточный мир ощутимо отторгает бегущего из Ясной Поляны Толстого.
Оттуда, с востока, где нет «пространства», а есть только «плоскость», раскатанная скалкой неба, некогда грозил империи невидимый Пугачев, — там место голо и пусто. Знакомая «арзамасская» мизансцена: там пусто для толстовского, «московского» слова.
Вот он, предел нашего «бумажного» материка: в месте переезда Толстого через Дон.
Туда нет пути «московскому» писателю Толстому. И поэтому Толстой именно в этот момент, едва переехав Дон с правого берега на левый, начинает стремительно умирать. Не в Ясной Поляне, не на западе, куда качнулся его «маятник, а здесь, на востоке, на бумажном берегу слова. В этот момент наступает роковой перелом в его состоянии, после которого спасти писателя уже невозможно.
Толстой оказался «царь До-дон»: на ту сторону реки ему переезжать было нельзя. Там для него не было помещения жизни, туда не раздвигался его шар слова, не имеющий размеров, там было только помещение смерти, словно по воде Дона проходит граница между двумя его мирами, «живым» и «мертвым».
* * *
Все так и было — не по дням, а по часам. Ввиду «придонной» (начинающейся за Доном) рязанско-мордовской степи у Толстого начинается агония.
Это была странная агония. Судите сами: спутники Толстого снимают его на первой же за рекой товарной станции — это и есть Астапово. Снимают потому, что Толстой при смерти, что он не выдержит двух часов езды до ближайшего города Раненбурга, где, наверное, найдутся для него больница, кровать, средства для ухода, наконец, тишина. Нет, он не протянет двух часов, и поэтому его снимают в Астапове, где нет ничего для ухода за таким больным. И в этом Астапове, где он лежит в доме начальника станции, в общем помещении (ему не сразу отвели комнату), притом еще этот дом стоит в нескольких шагах от полотна железной дороги, по которой идут поезда, а нужно знать, до какой степени Лев Николаевич не любил поезда, — в этом Астапове, с поездами, проезжающими ему по голове, Толстой живет еще семь дней. Что же такое была его агония в поезде?
Это был запрет на движение дальше, в пустоту, туда, где его ожидает смерть (слова).
* * *
Это слишком похоже на арзамасскую мизансцену: христианский «берег», заглядывающий поверх нижнего языческого «моря» — и предсмертные страхи Толстого. Здесь, на берегах Дона узнается тот же ментальный балкон, на котором только и может существовать его характерный «московский» язык, оформляющий себя в процессе отторжения от иного моря, от моря иного.
Этим внутренним отторжением был в свое время обеспечен «арзамасский ужас» Толстого, отшатнувшегося в 1869 году от края христианского балкона. Одно предощущение спуска на финское (мордовское) дно лишило его тогда душевного равновесия, пошатнуло до основания его — обеспеченную словом — веру.