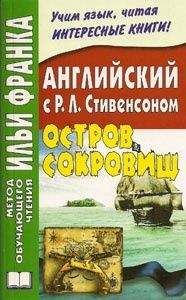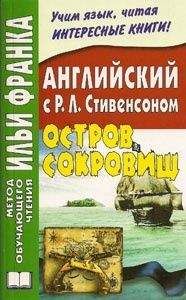Он назвал состояние, испытанное им в гостинице с квадратными номерами, «арзамасским ужасом».
Толстой испытал ужас утраты слова, точнее, утраты «христианской» иллюзии, что слово способно загородить человека от смерти. Это был не столько арзамасский, сколько блудовский: столичный, литературный ужас.
Тут все сходится согласно нашей воображаемой «геометрии»; путешествие Толстого через Арзамас было «геометрически» подобно путешествию Блудова.
* * *
Сочинение Алексея Максимовича Горького об Арзамасе («Город Окуров») также довольно показательно. Проникнутое в должной мере социальными обличениями, карикатурами на мещанство и идеями классовой борьбы, оно начинается с описания нескольких пейзажей, с четырех сторон обстоящих Арзамас. Они ярки и верны, эти пейзажи, но главное, они очень разны. Алексей Максимович, вряд ли о том задумываясь, первое, что сделал — расположил этот город на перекрестье миров, на границе контрастных природных территорий, на которых затем совершаются не менее того контрастные (горьковские) коллизии. Спорное, двоящееся, четверящееся, ломкое место. Одного столичного наречия недостаточно, чтобы вместить в целостное понимание, связать одним текстом его разнородные составляющие.
Что происходит сейчас, что представляет собой сегодня «дробный» город Арзамас?
Прежде всего в Арзамасе виден большой белый собор.
Это замечательно: после расколов, ступеней, конфликтов, расщепляющих сознание границ, толстовского ужаса и блужданий Блудова, после разбора Арзамаса на метафизические составляющие самое время увидеть в нем собор.
Его могут наблюдать из окон поезда пассажиры, следующие из Москвы в Казань. Не только в Казань: железнодорожный узел в городе Арзамасе и сегодня остается одним из важнейших в этой части России. Здесь много ходит поездов, всем им открывается (по ходу из Москвы — слева) большой арзамасский собор.
С ним связана еще одна «двуединая» здешняя история. После победного окончания Отечественной войны 1812 года жители города решили построить собор, первый в России храм в честь победы над Наполеоном. Прежде Москвы и Петербурга — огромный, светлый, с широченными портиками по четырем сторонам света. Воскресенский. Квадратный: вот, кстати, и квадрат. Был даже план расписать его в характерном здешнем стиле — при том, что самого стиля как такового не было! Стиль только собирались найти (это внушает уважение: найти стиль), для чего организовали первую в России частную школу иконописи под руководством художника Ступина, уроженца города Арзамаса. Удивительный проект. Он исполнен какой-то запредельной гордости [37].
Собор был построен и расписан в особом духе: в черно-белом, «пространственном» стиле, том, что называется «гризайль». Европе этот стиль был хорошо известен со времен Ренессанса; в случае Арзамаса это составило истинную стилистическую революцию. В русских церквях мы по привычке ожидаем преобладание цвета; здесь же во главе всего стал свет.
Воскресенский собор в Арзамасе остается по сей день светел и как будто несколько пустоват внутри, что, впрочем, ему идет, потому что главное в нем — избыток, демонстрация, торжество пространства [38].
Но это не вся история. У этого сюжета было продолжение: на противоположном — южном — берегу реки Теши, что разделяет город пополам, где разворачивается пригород, село Выездное, местные купцы, не желая уступить городским, затеяли перестройку старинной церкви и в результате возвели еще один собор, примерно такого же размера, как первый, правда, уже без портиков и колонн, с прилепленными к телу храма плоскими пилястрами — без особого пространства. Он составляет своеобразное отражение первого собора, в меру искаженное, но все же похожее, как если бы между двумя храмами от земли до неба было поставлено зеркало.
Все же сказывается, даже в сюжете о соборе, заколдованное (раздвоенное) пространство Арзамаса.
Опять начинается разбор пограничного места. В нем помещаются как будто два пространства, одно настоящее, другое отраженное. Настоящее устроено на «балконе» города, на той невысокой ступени, с которой открывается вид на юг, в «море» Мордвы. Зеркало же выставлено именно с юга, со стороны «моря», что по сути своей верно, потому что там, на юге, нет христианского пространства, там только хрупкое (внепространственное) его отражение.
Арзамас по-прежнему раздвоен между «берегом» и «морем», и так разны эти его помещения, что чувствительный наблюдатель скоро начинает ощущать подобие провала в пространстве, трещины, берущейся из несовпадения нескольких арзамасских природ.
Московские слова по-прежнему бегут из этих невидимо растреснутых мест. Их пугает «зеркало» иного мира, встающее от земли до неба по линии железной дороги Москва — Казань.
Итак, Арзамас, как пограничное явление, остается конфликтно наэлектризован, двуедин, «соборно-разборен». Таково его характерное состояние. Эти электричество и конфликт существуют прежде всего в нашей памяти, в нашем литературном сознании. Полярное различие «Арзамаса» и Арзамаса показывает, что наше следующее за словом сознание остается по-прежнему не вполне крещено реальной географией. По-прежнему у нас вместо глаз светит (заменяющее пространство) слово. Оттого душа стесняется, сердце сочинителя сбоит при въезде на арзамасскую границу. Разум ищет утешительной сказки; однажды таковая уже состоялась: «арзамасская» сказка 1811, 1815 годов — она занавесила своей страницей географическую карту.
Но стоит только отойти этой бумажной занавеске и проглянуть лесному духу, как все возвращается в исходное положение: сейчас на дворе 1811 год; за арзамасской занавеской пространство (без слов) пусто.
Московский книжный материк показывает здесь свой край; необходимо понять, очертить этот край, скрытый, зашифрованный, представленный потенциально на некоей сводной — историко-литературно-географической — русской карте. На ней исходная, недвижимая точка, она же фокус (слова), она же сама себе помещение, только и способна протянуться, обнаружить потенцию к новому движению.
Границы «материка» классической русской прозы довольно устойчивы.
По идее, отторжение нашим литературным сознанием самого понятия границы должно было бы размыть наш «прозаический» континент по всей карте России — поверх ее, во все стороны вовне. Материк слова, в идеале, беспределен, он извлечен из реального пространства, свободен от его арифметических, казенных пут.