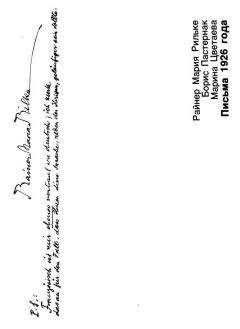Это ведь по существу полный траурный марш, колдовски-неожиданно подслушанный откуда не привыкли, с черного его хода, или с черного входа впущенный в душу; между тем как мы всегда в Бетховенский, Шопеновский, Вагнеровский и вообще во всякий траурный марш вступали со стороны ожидающегося выноса, через парадное Те Deum [296]. В «Ратушу» ты вложила много мысли и остроумья. По значенью ратсгерр от Романтизма — замечателен [297]. Он как персонаж просится в группу окружающую и поддерживающую Фауста. Сарказм главы очень содержателен и не каррикатурен.
Плачьте и бдите, чтоб нам спалось.
Мрите, чтоб мы плодились! [298]
Так же хороша тема «Я» [299]. Очень ловко чехол вырастает в символ. Жвачно-бумажный [300]. Но когда к концу главы бороздой взрезает ее сложную рябь угроза знакомого и ставшего родным голоса: Не видать как своей души!, имитирующего окончательное и непоправимое: «Не видать как своих ушей!» [301], тогда понимаешь, отчего, невзирая на свои крупные достоинства, глава оставляет более холодным нежели 1-я и 2-я. (Потому что только IV-я и последняя ни в какое сравненье с другими нейдут). Это оттого, что после «Увода» внимание, прикованное к судьбе Крысолова, нетерпеливо ждущее даже не развязки, а жаждущее счастья ему, уже не соглашается заниматься ничем другим, как бы оно ни было интересно, и видя в V-й главе только то, что относится к развитью темы, т. е. измену слову и предательство, воспринимает их мгновенно и томится оттяжкою взрыва.
И бытовая роспись, может быть наиудачнейшая в этом месте, его только мучит и возмущает. Может быть это в твои планы и входило. Терзательная глава.
И опять, — живопись, живопись. Живопись и музыка. Как я люблю тебя! Как сильно и давно! Как именно эта волна, именно это люблю к тебе, ходившее когда-то без имени, было тем, что проело изнутри мою судьбу, и снаружи ее почернило и омеланхолило, и висит на руках и путается в ногах. Как именно потому по роду этой страсти, я медлителен и неудачлив, и таков как есть. И твой женский возраст и твое незнанье того, как и зачем встретимся, и моя вчерашняя вера в прелесть, теперь перескочившая на год и годом от меня закрытая и как бы переставшая существовать. Все это в духе этого чувства. Всего этого не изменить. Это я собственно про «Детский Рай» [302]. Жестокая и страшная глава, вся вылившаяся из сердца, вся в улыбке, и — жестокая, и страшная. Восхитительно взята школа. Гул да балл. Гун да галл [303]. И пропущенный сквозь эту лихорадящую, будоражущую, раннеутреннюю ритмику:
Школьник? Вздор. Бальник? Сдан.
Ливня, ливня барабан.
Глобус? Сбит. Ранец? Снят.
Щебня, щебня водопад.
пропущенный, стало быть, через нее вчерашний, показавший свою силу «Индостан!» () () — страшный анапест, при вчерашнем ритмическом магните, только с измененным звучаньем. В тот миг, как узнаешь его мелодию, хочется кинуться ограждать детей от ее последовательности (от знанья конца)
Детвора
Золотых вечеров мошкара! [304]
Это обреченные всем разом входят в очковое поле зренья ритма. Некоторое облегченье, что для животных флейта звучала реально флейтой (реализм неукоснительный, безпродышно-фатальный), для душ же он метафоризируется, зовет трубой (бессознательно в фонетике рифмы: тра pa ра). Очищается, просветляется также и траурный марш. Гармония его раскалывается на двое. Мотив обетованья (звучит почти честно, действительно благовествующе): Есть у меня — — — [305]
И мотив отпевальный: В царстве моем... [306] — (звучит как канон: идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыханье). Первый мотив вырастает в глубине, за сеткой обольщенья, достигает твердости, истинной высоты, оплаченной драматически, в прорвавшейся после строчки: «Для мальчиков радость для девочек тяжесть» личной ноте:
Дно страсти земной
И рай для одной [307].
Но довольно о Крысолове. Я боюсь что сделал его ненавистным тебе кропотливостью своего разбора. Summa summarum[308]: абсолютное, безраздельное господство ритма. Оно естественно вызвано характером сюжета. Предельно воплощенное в двух драматических главах, где творятся и показываются его чудеса, оно распространяется и на другие главы, где ритм только лишается первого лица, остается же (в остальном) во всей силе и вызывает к существованью мысли, образы, повороты и переплетенья темы. ---------
Я получил твое письмо о чешских злоключеньях. Не могу сказать, как меня все это огорчает. Не уезжай из Франции, умоляю тебя. Мне кажется ты ближе к России, будучи там, нежели в Чехии, хотя по географии выходит наоборот. Я не знаю, чем это объясняется, но думаю, что и у тебя такое же чувство. Мне верится, что все у тебя обойдется, хотя я и не преуменьшаю трудностей, неожиданно свалившихся на тебя.
Ах эти вечные интриги! Страдаю от них последнее время и я. Скучно рассказывать, но месяц назад мне (материально и в смысле перспектив) было сравнительно легче. Теперь же очень трудно, и возникает опасенье, что будет как прошлый год. Но ради всего святого, не возвращайся в Чехию. Приведенных слов Маяковского не знаю, потому что вообще ничего не читаю и не знаю, что кругом делается. Плюнь! Я тебе о нем напишу. Он престранно устроен. Может быть ему кажется, что это он тепло о тебе вспомнил. Он давно в Крыму, а то бы я с ним поговорил. Я, сильно любя его, раза два-три в жизни ссорился с ним по такому же поводу. Тогда я сталкивался с полным его неведеньем того, о чем шла речь. Прости за скучное многословное письмо. Теперь путь к Крысолову очищен. Его можно читать по-сибаритски.
Но «Крысолов» не такая вещь, о которой можно сказать, что она «страшно нравится» и дело с концом. Меня волновали ее особенности и хотелось в них разобраться.
ЦВЕТАЕВА — Б. Л. ПАСТЕРНАКУ
1-го июля 1926 г., четверг.
Мой родной Борис,
Первый день месяца и новое перо.
Беда в том, что взял Шмидта, а не Каляева [309] (слова Сережи, не мои), героя времени, (безвременья!), а не героя древности, нет еще точнее — на этот раз заимствую у Степуна [310]: жертву мечтательности, а не героя мечты. Что такое Шмидт — по твоей документальной поэме: Русский интеллигент, перенесший 1905 г. Не моряк совсем, до того интеллигент (вспомни Чехова «В море!» [311]), что столько-то лет плаванья не отучили его от интеллигентского жаргона. Твой Шмидт студент, а не моряк. Вдохновенный студент конца девяностых годов.