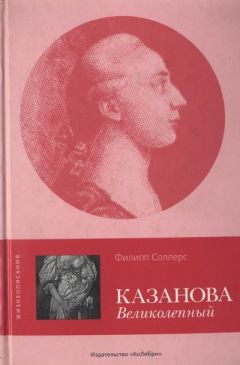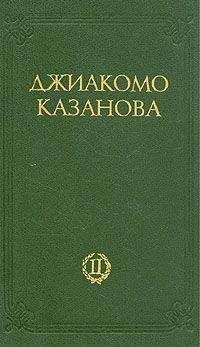Приличия соблюдены (все совершается в загородном доме), маркиз в ту ночь «посещает супругу». Однако «сделка» была заключена заранее.
Джакомо, Лукреция и Леонильда укрылись в садовой беседке. Они вспоминают ночь, которую провели вместе девять лет тому назад. Лукреция тактично оставляет отца и дочь наедине, предостерегая их от «преступных поступков».
«Это напутствие, высказанное напоследок, возымело действие, прямо противоположное его смыслу. Упоминание о пресловутом „преступлении“, которого мы не должны совершать, сделало его столь явственно ощутимым, что самое малое, почти невольное поползновение увлекло нас так далеко, как мы не могли бы зайти, когда бы поступали по осознанному умыслу и свободной воле. Мы замерли на месте, глядя друг на друга в безмолвном раздумье, удивленные, как после обоюдно признались, тем, что не ощущаем вины и не испытываем угрызений совести. Тогда мы приникли друг к другу, а затем сели рядом, и в один голос дочь моя назвала меня супругом, а я ее — супругой. Свершившееся между нами мы подкрепили нежными поцелуями, и явись в тот миг пред нами ангел Божий, обличающий нас в чудовищном поругании естества, мы бы лишь посмеялись. Целомудрие донны Лукреции, заставшей нас безмятежно предающимися этим вполне благопристойным ласкам, ничуть не было задето».
Интрига осложнена причудливыми поворотами, вроде истории с Анастасией, служанкой Леонильды, за которой Каза когда-то приволакивался: она попыталась «перехватить» отца-жеребца и перевести вексель на себя.
В конечном счете все соучастники невиннейшего преступления остались довольны. Каза получил пять тысяч дукатов, его проводили с почетом, расставание было орошено слезами.
Представьте-ка себе, как спустя много лет молодой маркиз рассказывает какой-нибудь своей любовнице: «Я сын дочери моего отца, которым на самом деле был Казанова».
Сын дочери моего отца — эта формулировка до странности напоминает богословское определение (приведенное Данте): «Я Дева Мать, дочь Своего же Сына»[51]. Вот она, сердцевина прекрасной розы инцеста. Пролетает тихий ангел.
Дон Джакомо меж тем направляется в Рим. И приводит нас к герцогине де Фьяно, покладистой, некрасивой и, к сожалению, небогатой.
«Умом она не блистала, но желала прослыть остроумной, а потому усвоила привычку насмешливо злословить».
Муж у нее импотент, babilano, babilan (позднее Стендаль подхватил это словечко для обозначения указанной слабости).
Однако главная римская новость той поры — гонения на иезуитов. Уступив давлению со стороны европейских монархов, папа Климент XIV (Ганганелли) велел распустить орден. Казе в это время нужно работать в библиотеке. Ватиканские иезуиты приняли его с распростертыми объятиями.
«Иезуиты всегда выделялись среди других светских христианских орденов своею учтивостью, и даже, осмелюсь сказать, одни они ею и обладали. Когда же они очутились в критическом положении, сия учтивость показалась мне граничащей с раболепством».
Это не помешало Казанове уверенно обвинять иезуитов в том, что они из мести отравили Климента XIV: «Это было последнее, посмертное доказательство их могущества». Надо заметить, что дон Джакомо каждый раз, когда дело касается иезуитов, как бы ненароком отходит в тень. Старая, с середины XVIII века занимающая умы во Франции, Португалии, Испании, Италии история. Иезуитский заговор, масонский заговор? Конечно, нет дыма без огня, но тут дыма намного больше, чем пламени. В этой связи не может не возникнуть фигура кардинала де Берниса.
У Берниса, который все это время переписывается с М.М. (по-прежнему венецианской монахиней), есть «постоянная любовница» — принцесса де Санта Кроче, «молодая, пригожая, веселая, живая, пытливая, смешливая, говорливая, сыплет вопросами и не имеет терпения дослушать ответы».
«Эта молоденькая женщина виделась мне настоящей игрушкой, созданной для развлечения ума и сердца любвеобильного и мудрого мужа, занятого великими делами и нуждавшегося в отдохновении».
Бернис встречается с принцессой по три раза на дню. Оба они становятся сообщниками Казы в Риме.
Не для того ли, чтобы потешить своих друзей, дон Джакомо скоропалительно затевает новое приключение в стенах монастыря, точнее, приюта, где воспитываются девицы из бедных семей? Его избранница — Армелина, чьи «печаль и бледность имели, вернее всего, причиной бремя заглушенных желаний».
В ход идут сговор с настоятельницей, веские доводы, стимулирующие ее благосклонность, в виде подношений кофе, сахара, теплой одежды. Меж тем «перезрелые святоши» возмущаются. Раскрепощение девиц входит в просветительский проект, поэтому Бернис с принцессой охотно помогают Казе. Но почему-то эта история кажется приевшейся и скучной. Армелина отлично усваивает науку, а Каза не чувствует в себе призвания «мученика добродетели». Однако же приходится войти в роль. Разумеется, он прибегает к излюбленной тактике: ужины с подружкой Армелины, шампанское, устрицы, будто бы невинные забавы, наряды, переодевания — разные милые глупости, но иной раз можно позволить себе приятную вольность, например, взять губами устрицу прямо с открытой груди:
«Увидев, что я обомлел и глаз не свожу с ее груди, она спросила, не хочется ли мне, как младенцу, приложиться к соску».
Старый младенец, молодые сосцы. Дева с порочным младенцем. У Казы разыгралось воображение: он признается, что хочет сосать, как ребенок, грудь матери, которая приходится ему дочерью. Ладно. Но продвинуться дальше ему на этот раз никак не удается. Жмурки, баловство, игривые прикосновения, шалости и ничего существенного. Девицы заботятся о замужестве, Казу подпускают только с тыла. Их можно понять — остальное лучше приберечь. Нужно хорошо пристроиться. Каза — партия незавидная, на горизонте маячат претенденты помоложе. Что ж, прощайте и будьте счастливы.
Дон Джакомо замыкается «в кругу семьи». Вот, пожалуйста, еще одна из его вероятных дочерей — Джакомина (тем временем Леонильда родила сына — браво!), дочь Мариуччи, она еще красивей, чем оставшаяся в Лондоне София. Как летит время! А тут еще объявляется брат Джакомо Дзанетто (мужской вариант материнского имени) со своей дочерью Гильельминой. Одно слово «племянница» действует безотказно — Джакомо воспылал заранее:
«При этом известии я положил себе любить свою племянницу; необычайным и забавным показалось мне, что пружиной сего любовного влечения явилось некое мстительное чувство. Предоставляю более сведущим, чем я, знатокам человеческой натуры толковать подобные феномены».