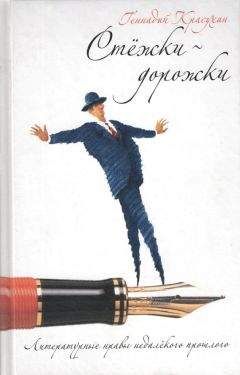Кстати, ордена и медали большой группе писателей вручал в тот день секретарь ЦК Михаил Зимянин. «Представляешь? – сказал Чупринин. – Он сказал, что является поклонником моего таланта!»
Потом я услышал ту же зимянинскую фразу, переданную мне другим награждённым, потом – третьим. Потом оказалось, что он каждому говорил одно и то же. Много талантов промелькнуло в тот вечер перед секретарём ЦК. И каждому он симпатизировал. Идиллия!
Мне она напомнила давнюю процедуру вручения писательских билетов. Вместе со мной их получили Валерий Гейдеко, Эдуард Бабаев, Симон Соловейчик и будущий герой войновичской «Иванькиады» Сергей Сергеевич Иванько. Вручал билеты многажды описанный в мемуарной литературе Виктор Николаевич Ильин, оргсекретарь московского отделения Союза, генерал-лейтенант КГБ. «Как же, как же! – улыбался он, долго тряся вашу руку. – Читал!» Правда, поздравив таким же образом Иванько, добавил: «Очень надеемся, дорогой Сергей Сергеевич, на ваше самое активное участие в общественной жизни нашего союза».
Отмечали получение писательских удостоверений втроём. Иванько никому из нас знаком не был, а Гейдеко тут же уехал в редакцию.
С Бабаевым мы подружились давно. Одно время неразлучный с поэтом Евгением Винокуровым, он нередко приходил ко мне в газету. К тому же и жили мы все трое почти рядом. Бабаев на самом Арбате, я в переулке Аксакова (теперь и до переименования – в Филипповском), а Винокуров – с другой стороны от Сивцева Вражка в печальнознаменитом писательском доме на улице Фурманова, которой тоже сейчас вернули старое название: Нащокинский переулок. Так что очень нередко мы втроём вместе гуляли по бульварам.
Работал Эдуард Бабаев тогда заместителем директора музея Толстого на Кропоткинской, которой теперь тоже вернули прежнее название: Пречистинка, был влюблен во Льва Николаевича, о ком, казалось, знал абсолютно всё, – во всяком случае, отвечал на любые вопросы и помогал отыскать цитату, когда к нему обращались за помощью. Он вообще очень много знал и был глубоким мыслителем, хотя не оставил философских трудов. Зато писал стихи и обаятельные детские книжки. Одну из них – «Чья это собака?» – у нас в семье очень любили, её много раз перечитывал сын, будучи младшим школьником. Когда у нас появилась собака, мы вспомнили эту волшебную книгу.
Потом Эдик перешёл в Московский университет, где стал любимцем студентов журфака. При его лекторском таланте, обширных знаниях и человеческой мягкости – иначе быть не могло. Когда я решил собрать свои довольно многочисленные работы по «Евгению Онегину» и защитить по ним диссертацию, Бабаев согласился быть у меня оппонентом. Мне это было очень важно в моральном отношении, потому что кроме человеческой теплоты и доброты Эдик был невероятно принципиален, когда дело шло о литературе, и, убеждён, он никогда не согласился бы оппонировать, если б диссертация ему не понравилась.
Он вызывался быть моим оппонентом и по докторской, но правила ВАКа не допускали, чтобы по обеим диссертациям в оппонентах числился один человек. В это время мы с ним крепко подружились. Я стал главным редактором «Литературы» – еженедельного приложения к газете «Первое сентября», и он часто украшал моё приложение своими занимательными литературоведческими статьями.
На праздновании пятилетия приложения в Центральном доме литераторов он выступил и рассказал, как в эвакуации в Средней Азии они подростками ходили по городу с будущим известным поэтом Валентином Берестовым и мечтали, чтобы когда-нибудь стала выходить газета занимательного литературоведения. Школьники любили книжки Перельмана «Занимательную физику», «Занимательную математику», а ничего подобного в гуманитарных науках не было. «У хорошей мечты, – закончил Бабаев, – есть такое свойство: иногда она сбывается».
Он пришёл ко мне в редакцию весной. Я хорошо помню, какой это был день недели – четверг. Он прочитал в наборной полосе свою статью о гоголевском капитане Копейкине, принёс мне новую – об «Эоловой арфе» В. Жуковского, а потом мы с ним гуляли по Маросейке, обсуждая предлагаемую им серию статей по занимательному литературоведению. Я проводил его до метро «Китай-город». А в субботу мне позвонила его жена Майя Михайловна и сказала, что ночью Эдуард Григорьевич умер от сердечного приступа…
Симон Львович Соловейчик в «Литгазете» был фигурой легендарной и невероятно уважаемой. Он не так часто у нас печатался, но всегда с прекрасными, отточенными по мысли и форме статьями по педагогике. Он был первооткрывателем многих учительских талантов, педагогических школ, направлений. Разумеется, в советских условиях не всякое горячо пропагандируемое им направление, приветствовалось, и не каждый учитель, о котором Сима (так все его звали) писал с обожанием, вызывал те же чувства у тех, кто был приставлен руководить педагогикой.
Помню безуспешные попытки Нелли Логиновой пробить очередную статью Соловейчика, помню, ценой каких уступок цензуре ему удавалось у нас напечататься, как измученный он приходил ко мне в кабинет, валился на стул и говорил: «Налей. Я ведь знаю, что у тебя всегда есть». Мы невесело с ним выпивали.
Я знал его ещё со времён «Семьи и школы» и относились мы друг к другу с ровной приязнью.
Мы встречались даже чаще, чем предполагали. То в ЦДЛ оказывались за общим столом, когда в моей и его компаниях находилось некоторое количество общих знакомых. И тогда нередко разъезжались по домам в одной машине. Соловейчик жил в доме на улице Кондратюка в районе метро «Щербаковская» (теперь – «Алексеевская»), и шофёры охотно брались довезти его до этого дома, возможно, известного им тем, что там жили многие журналисты, особенно из «Комсомолки». Потом и вовсе: он переехал на 1-й Коптельский (рядом с Сухаревской, тогда – Колхозной площадью), который выводил к Астраханскому переулку, где одно время я жил в писательском доме. А бывало, что мы встречались совсем в неожиданных местах, например, в других городах, куда каждый сам по себе приезжал в командировку. Так однажды мы жили с ним в одной гостинице в Ленинграде. Собирались по вечерам в одном из наших номеров и много душевно беседовали. Историй он знал множество, а слушатель я был благодарный.
Мы перезванивались, читая друг друга. Его замечания по поводу моих статей в «Литературке», как правило, были дельны и по существу. Я поздравил его с одной, на мой взгляд, блестящей статьёй в «Новом мире», которая заканчивалась феноменальным разбором послания Пушкина ребёнку, сыну князя Вяземского. Он был обрадован, сказав, что иные пушкинисты не приняли его анализа, считая, что и не анализ это вовсе, а голая эмоция. Я успокоил его, сославшись на высказывание Тынянова о том, что пушкинисты Пушкина давно уже не читают, они читают друг друга!