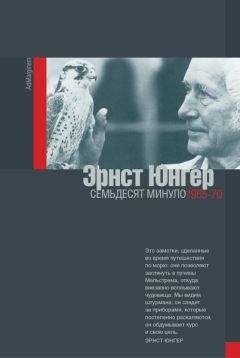Со страданием таких огромных людских масс на узком пространстве мне прежде еще сталкиваться не приходилось: чувствуешь, что больше не в состоянии распознать отдельного человека. Замечаешь также механическое движение, присущее катастрофам. Мы стояли по эту сторону решетки школьного двора и протягивали наружу банки с мясными консервами и сухари или просто отпускали их в гущу рук, сквозь железные прутья тянущихся нам навстречу. Эта деталь особенно врезалась мне в память. Из задних рядов напирали следующие и, если сухарь падал на землю, люди проталкивались вперед, не успевая поднять его. Чтобы добраться до противоположной стороны колонны, я приказал перебрасывать консервные банки по дуге, однако все это было лишь каплей на горячий камень. В одного старика, который, прихрамывая, медленно ковылял мимо меня, я прицеливался банками, верно, не менее дюжины раз — но все они попадали в другие руки, пока он не пропал из виду в людском потоке. Потом я дал поручение конвоирам втащить сюда одного совсем молоденького солдатика, чтоб накормить его — но вместо указанного они схватили совсем другого, у которого, впрочем, тоже уже два дня маковой росинки во рту не было. Между тем раздался голос глашатая, которого Спинелли выставил на стену, чтобы выкрикнуть из толпы портного, поскольку белье наше нуждалось в штопке. Так текли они мимо сами собой, подобно темному потоку судьбы, и было странно, волнующе и поучительно наблюдать эту драму через надежную решетку. Почти все они выражали полную апатию и все задавали только два вопроса: дадут ли им поесть и будет ли заключен мир. Я велел крикнуть, что Петен предложил перемирие, тогда всё снова и снова стал задаваться отчаянный вопрос: «Так подписано ли оно?» Здесь со всей очевидностью становилось ясно, каким благом является мир.
В хвосте колонны, прохождение которой растянулось почти на два часа, я заметил группу седовласых французских офицеров с медалями за Мировую войну. Они тоже с трудом продвигались вперед, волоча ноги и понурив головы. Вид их тронул меня; я приказал отворить ворота и препроводить их во двор. Здесь я предложил им поесть и переночевать. После того как над ними поколдовал парикмахер, я вскоре увидел, как они, вполне оправившись, сидели за длинным столом, что стоял во дворе рядом с кухней. На обед у нас был отменный суп, мясо и вино в большом количестве, но прежде всего наша команда держала себя с такой естественной вежливостью, что угощение удалось на славу. Было видно, что настроение измотанных гостей было как у тех спящих, что видят дурной сон, который неожиданно принимает благоприятный оборот. Они были еще как бы оглушены поражением. Когда я поинтересовался у них, чем, на их взгляд, объясняется такой стремительный крах, то услышал, что они объясняли его налетами штурмовой авиации и пикирующих бомбардировщиков. С самого начала были якобы разрушены коммуникации и снабжение, была нарушена передача приказов, затем молниеносными действиями наших войсковых подразделений их армии, словно газовым резаком, были расчленены на куски. Они, в свою очередь, задали мне встречный вопрос, могу ли я свести успех к какой-нибудь формуле — я ответил, что усматриваю в нем победу рабочего[143]; однако у меня зародилось подозрение, что они восприняли мой ответ слишком буквально. Они не знали прожитых нами после 1918 года лет и тех их уроков, что, словно в плавильном тигле, слились воедино.
Вечером, наведя порядок в небольшой замковой кухне, я со Спинелли сидел в овальном салоне. Вид, открывавшийся из окна, несравненно прекрасен, ландшафт похож на выдвинутую вперед сцену, партер которой образует травяная лужайка парка, с обеих сторон обрамленная стенами высоких деревьев. Эти же лесные полосы образуют как бы кулисы; зелеными ивами и перелесками они прорезают отлогий склон. Меж ними рампой лежит долина, из глубины которой поднимается церковная колокольня небольшой деревеньки. Горизонт замыкает нежное закругление. Таким образом, парк и предгорье говорят о целостном архитектурном замысле, совершенство которого заключается в чувстве меры. Я на своем веку видел и более грандиозные, более роскошные перспективы, но более законченной, более завершенной — никогда. Потом прогулка по парку вниз, в долину. На одном крестьянском дворе мы встретили священнослужителя с сестрой и группой женщин с детьми, которым случилось пересекать поле боя. Тогда самолеты с ревущими сиренами спикировали было на них, однако, не сбросив бомбы, снова удалились, потому что, как полагала сестра, они увидели, «что среди нас был священник». Оба, хотя минуло уже несколько дней, все еще были крайне возбуждены и наперебой, в красках описывали нам пережитое. Они пребывали еще в том состоянии, которое я нередко наблюдал в сумятице последних недель. В народе метко говорят, что не все винтики на месте.
Записывая эти строки глубоко за полночь, я сижу за письменным столом герцогини. Отчасти вскрытые ящики заполнены книгами, содержащими посвящения известных авторов. Когда я листал одну из них, оттуда выпало письмо ее сына, пятнадцатилетнего Франсуа, написанное в очень любезном тоне. Письмо было датировано 1934 годом, и из него я увидел, что писавший собирался стать летчиком и что нынче он, вероятно, как раз достиг нужного возраста.
Что же касается замка, то к вечеру я навел здесь такой порядок, что в нем сверкало все, до последнего оконного стекла.
МОНМИРЕЛЬ, 19 июня 1940 года
Я спал в комнате флигеля, примыкавшей к капелле. Там, как живой, мне приснился Карл Шмитт: будто упал он на каком-то вокзале и поранился. Я заключил его, плачущего, в объятия. Было при этом одно примечательное обстоятельство, которое, проснувшись, я еще помнил совершенно ясно и над которым теперь тщетно ломаю голову.
Ранним утром я сижу здесь, глядя на въезд и корпуса ворот, все еще продолжающие дымиться. Из оконных стекол, сквозь которые я наблюдаю эту картину, среднее выбито из рамы, а застрявший в замазке осколок представляет собой точный силуэт Queen Victoria. Даже несколько высокомерный рот ее прорисован тонкой трещинкой.
После завтрака я на порожней машине для перевозки боеприпасов отослал в Лаон пленных офицеров, до сей поры отдыхавших в здании школы. На прощание я велел налить им по стакану вина. Пока остальные забирались в кузов, старший по возрасту, майор, поблагодарил меня от имени всех за прием, оказанный им в Монмиреле.
На обратном пути, в саду другой школы, я обнаружил великолепный кедр с восково-голубыми иголками и тонко-ребристым стволом цвета корицы. Я никогда не видел ничего красивее, ни на Майнау[144], где растут прямо-таки гигантские экземпляры, ни в горных лесах Канарского архипелага.