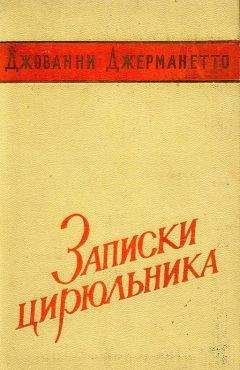— Да, — отвечаю, — я стреляный воробей.
— Ты что же, уголовный? — спросил он меня с полным ртом.
— Нет, политический.
Арестант, лежащий на матраце, смотрит на меня внимательно, тогда как мой собеседник улыбается со смешанным выражением восхищения и сожаления.
— Ну и типы же вы, политические! Что за удовольствие попасть сюда, не «поработав», не могу понять… — И, видя, что я смотрю на лежащего арестанта, добавляет: — Нищий, вшивый и глух как тетеря. Вчера я думал, что он притворяется, но теперь я уверен, он и бомбардировки не услышит; можешь говорить не стесняясь.
— Что же ты хочешь, чтобы я сказал?
— Вы счастливее нашего брата, — прерывает меня собеседник, — вам живется спокойно. А нам постоянно надо быть настороже, заметать следы.
— Да, конечно, — говорю я.
Собеседник расположен к излияниям.
— Тебе я могу рассказать. Вы, социалисты, не «падаль». Этот раз мне не повезло, поймали на месте. Я, к твоему сведению, специалист: работаю по памятникам. — И, заметив, что я не понимаю, объясняет: — Специалист по краже памятников. Это никого не обижает. Кому плохо оттого, что с памятника Кавуру исчезнет бронзовая доска или чего-нибудь не хватит у Виктора Эммануила II, прозванного «отцом отечества» за то, что имел кучу любовниц и незаконных детей, или на каком-нибудь другом памятнике не окажется цепей? А для меня это хлеб, потому что бронза в цене. По совести говоря, разве не лучше, чтобы эти бесполезные цепи пошли на какую-нибудь фабрику, на мельницу, на что-нибудь полезное людям?
Мой собеседник, видимо, доволен обнаруженной им эрудицией. Он подмигивает мне и берет сигару. Затем продолжает:
— Да, не повезло! Набрал я уже полный мешок цепей, хорошие цепи, ни одной ржавой!.. Слышу шаги… Обернулся — «близнецы»[80]! Попытался было улизнуть, да где уж там! На допросе я все-таки обставил «любопытного»[81], только никому ни гу-гу! Понял? — И, оглянувшись на соседа, он снижает голос: — Я назвался фальшивым именем. Собственно, имя-то настоящее, но не мое. Это имя моего дражайшего друга, славного такого парня, рабочего, у которого я забрал документы. Никогда ведь не знаешь… Всегда надо быть запасливым. Вот и теперь: меня поймали на месте — скорый суд и короткая расправа… Но если бы меня судили под моим настоящим именем, было бы хуже, так как я неоднократно попадался. Понял?
Он снова подмигивает мне и довольный потирает руки. У двери гремят ключи: вечерний обход. Входят два сторожа и старый надзиратель. Осматривают камеру, проверяют целость решетки.
— Кто тут новый? — спрашивает надзиратель.
— Я, — отвечаю.
Он мерит меня презрительным взглядом.
— Коммунист!
— Да.
— Я вам покажу коммунизм!
И, вращая глазами, удаляется.
Утром уводят в суд «специалиста». Он уходит довольный и на прощание говорит мне:
— Обернусь скоренько, заберу свое барахло — и на волю! Ты приготовь мне адресочки твоих, я их проведаю, расскажу о тебе. Надо помогать друг другу.
День, нескончаемый тюремный день проходит как всегда: обход камер, уборка, похлебка, прогулка — все то же, знакомое, как скверный, часто повторяющийся сон. Я хожу, курю… Сосед или ест, или спит. В промежутках он ищет в голове и густой бороде вшей, которых с видимым удовольствием давит ногтем на каменном полу.
Вечером вернулся в камеру «специалист». Вид у него был свирепый. Он ввалился, ни с кем не поздоровавшись, и тотчас же бешено заходил взад и вперед по камере, не глядя на нас.
— Что случилось? — спросил я. — Открыли тебя, что ли?
— Вот и надейся на друзей! — заговорил он, круто останавливаясь на ходу и глядя на меня. — Верь им, как же! Этот негодяй, эта каналья, этот жулик, о котором я тебе еще вчера рассказывал… Я думал, что он порядочный человек, а он, мерзавец, оказался преступником, и его полиция разыскивает! Я за него получу больше, чем дали бы мне лично! Искренно возмущенный, он идет к своему матрацу и мрачно укладывается спать.
Тишина. Мертвая, беззвучная тишина тюрьмы, нарушаемая только размеренными шагами стражи и окликами:
— Кто идет?..
…А ведь я был в России. Я видел его!..
На следующий день меня перевели из камеры № 13 в одиночку. На допрос все еще не вызывали. Переписка запрещена. Я ломал себе голову, стараясь понять причины столь необычного обращения.
Наконец мне сообщили, что я еду. Куда? Никакого ответа. Я решил, что в Рим. Вероятно, на процесс. Но почему не было допроса? Я ничего не знал о том, что происходило на воле. Первые известия сообщил мне уже в тюремном вагоне арестант, опрятный и симпатичный старик. Он рассказал, что идут аресты, главным образом рабочих, что фашисты жгут кооперативы, избивают и убивают людей, не щадя ни женщин, ни детей, громят и грабят жилища…
— Окаянные, — говорил о них старик.
— А ты не боишься, что встретишь здесь какого-нибудь фашиста? — заметил я ему.
— Ну, это невозможно, их не сажают.
— А ты здесь надолго? — спросил я его.
— О, на три сардских дня, — ответил он, и на мой вопросительный взгляд пояснил: — Три сардских дня — значит: сегодня, завтра и… всегда. Я бессрочный. Уж отбыл сорок шесть лет… За убийство. Убил и плачу за это. Плачу, пожалуй, слишком дорого… другие теперь убивают, крадут — и не расплачиваются, как я. Но я уже стар…
Глава XXIX
В тюремном вагоне
Одной из самых тяжелых пыток, которым подвергают заключенных, можно считать путешествие в тюремном вагоне. Его, кажется, выдумал Джолитти, как и многие другие тюремные «усовершенствования». Мне пришлось совершить таким путем изрядное количество поездок по Италии.
Я встречал за границей многих людей, которые, захлебываясь, говорят о красотах моей родины: Рим, Венеция, Капри… Но они и не подозревают, что из сорока миллионов итальянцев тридцать девять и три четверти миллиона не знают своей страны и если кто-нибудь из них и путешествовал по ней, то это происходило или в вагонах для скота в период войны или… в тюремных вагонах.
Такого рода путешествие весьма длительно и чрезвычайно мучительно. Происходит оно этапами, с длинными остановками и медлительным продвижением. Однажды на переезд из Гарессио в Фоссано — расстояние между ними меньше шестидесяти километров — ушло три дня! От Турина до Рима — шестьсот шестьдесят километров. Прямой поезд, выходя из Турина вечером в восемь часов пятнадцать минут, прибывает в Рим на следующее утро в семь часов тридцать минут. Меньше двенадцати часов! Товаро-пассажирский поезд проходит это расстояние в восемнадцать часов, мы же употребили на это больше месяца.