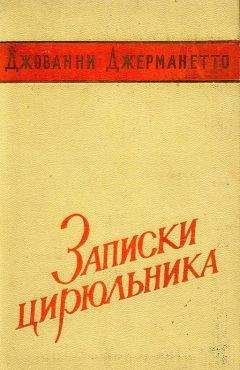Я крепко спал на моем жестком матраце, когда меня разбудили. Тюремный сторож с фонарем и связкой ключей стоял у двери камеры.
— Скорей, скорей одевайтесь! Пора ехать, карабинеры ждут!
Я оделся.
— Который час? — спросил я.
— Два. Надо торопиться, потому что поезд отходит в семь часов пятнадцать минут.
— Черт возьми! — выругался я. — Пять часов с четвертью, чтобы доехать до вокзала?
— Надо еще объехать полицейские участки и забрать других, — объяснил мне сторож.
Это был добрый старик, охотно разговаривавший с политическими. Он помог мне сдать «арестантское приданое» и затем отвел меня в канцелярию, где находилось уже около тридцати заключенных. Некоторые из них в арестантской одежде с номерами на груди, другие — в своей одежде. Люди всех возрастов, всех сословий.
По мере того как выполнялись формальности — вручение отобранных при поступлении в тюрьму денег и вещей, подписи, отпечатки пальцев и тому подобное, — заключенные один за другим переходили к карабинерам, которые надевали им на руки ручные кандалы.
Эти железные запястья не имеют ничего общего со старинными «цепями». По виду это два стальных браслета, объединенные вместе в форме прописной буквы Е. В два открытых квадратика всовываются руки, затем их замыкают отдельной планшеткой, привинчиваемой к трем концам буквы. Эти браслеты причиняют мучительную боль рукам, которые распухают и часто кровоточат. Длинной цепью арестанты связываются между собой, от первой до последней пары.
Когда подошла моя очередь, я запротестовал против наручников, так как не был в состоянии двигаться без палки.
Начальник нашего конвоя не соглашался принять меня нескованным. Чиновник тюремной канцелярии старался объяснить ему, что я никак не могу убежать даже со свободными руками, но тот ничего знать не хотел.
— Заковать его без всяких разговоров! — строго приказал начальник. — Правила это предписывают. Когда он совершал преступление, он мог ходить — пусть теперь расплачивается!
И мне надели браслеты. Я был последним в цепи. Когда раздался приказ двигаться, цепь медленно стала развертываться, и наконец подошла моя очередь идти. Закованный, без палки я не мог сделать ни одного шага, но мне и не пришлось его делать. Стоявший впереди меня старик со свертком белья под мышкой и клеткой с зябликом не двинулся с места. Заметив, что он стоит, остановились и шедшие впереди него. Вся цепь осталась на месте, несмотря на крики и угрозы конвойных. По цепи пробежала фраза: «Здесь есть один, который не может идти». Этого было достаточно; никакими силами нельзя было сдвинуть с места арестантов, среди которых один только я был политическим. Существует трогательная солидарность и среди уголовных. Начальник попробовал убеждать:
— Правила гласят: каждый арестованный должен быть закован. Поняли?
— Да, да, понял, — ответил ему я. — Применяйте ваше правило, но вам придется везти меня на тележке; это будет нелепо, но зато честь отечества и незыблемость правил будут спасены.
— Я приказываю вам идти! — заорал начальник.
— Не могу!
— Я вам еще покажу! — Он велел освободить одну мою руку и свирепо сунул в нее палку. Мы двинулись. Коридор за коридором, дверь за дверью, наконец мы на пустынной, слабо освещенной улице. Обычный тюремный фургон ожидал нас.
— Сколько арестантов? — спросил кучер.
— Двадцать, — ответил начальник.
— Черт подери! Куда же я их дену? У меня только шестнадцать мест. Да еще и конвойные… Кроме того, мне надо забрать и в других местах.
— Не беда, стиснем их маленько: не стоит их баловать, — успокоил кучера начальник.
Глухой ропот среди арестантов.
— Кто там разговаривает? Кто протестует? Ну-ка, выходи! — заорал начальник. Никто не отозвался.
Началось наше путешествие по городу. На каждой остановке фургона к нам втискивали новую жертву итальянского правосудия. Мы задыхались, скованные руки распухли и мучительно болели при каждой встряске расшатанного фургона. Старик с зябликом жаловался:
— Задохнется моя бедная пичужка!
Другой, тоже старик, дрожал за белую мышь. Это были старые каторжники, которым разрешается держать при себе животных. Преступники этого типа обычно нежно относятся к своим питомцам. Как-то в Анконе в тюрьме я знавал каторжника, тоже старика, который плакал, как ребенок, потому что его скворец сломал себе лапку. Как он за ним ухаживал! И действительно вылечил его.
Наконец мы добрались до вокзала. Некоторое время мы, выстроившись, ждали, пока подадут поезд. Затем нас разъединили и поодиночке ввели в тюремный вагон. Это длинный вагон, разделенный пополам коридором. По обеим сторонам коридора расположены крохотные камеры, в которых только один человек может сидеть. Летом в них задыхаешься, зимой мерзнешь. В дверях этих камер проделаны маленькие отверстия, выходящие в коридор. В наружных стенах окон нет. Наверху, в потолке, вставлены небольшие стекла двенадцати сантиметров в поперечнике. Но от пыли и дождей они загрязнены так, что ничего не видно.
Когда поезд тронулся, в мою камеру вошел начальник.
— Теперь вам не надо ходить, — злорадно сказал он и собственноручно закрепил мне наручники на обеих руках.
После этого нам роздали еду. Во время путешествия похлебки не дают. Арестанты получают только хлеб. Кандалов не снимают ни на время еды, ни при каких-либо других обстоятельствах. При отправлении естественных нужд карабинер помогает арестанту.
Обычно тюремные вагоны прицепляются к товаро-пассажирским поездам. Часто их отцепляют на узловых станциях, и на самые короткие переезды тратится неимоверное количество времени. От Турина до Александрии (шестьдесят километров) мы ехали десять часов. В Александрии мы высадились из вагона и уселись в фургон, отвезший нас в местную тюрьму. Здесь снова повторилась знакомая церемония: запись, личный обыск, отпечатки пальцев, путешествие в склад для сдачи вещей и наконец камера. Это так называемая пересыльная камера, где мы увидели необыкновенную грязь и запустение. «Все равно — завтра уйду отсюда», думает каждый вступающий в эту камеру.
В камере, в которую ввели нас, все стекла оказались выбитыми. Дело было зимой. Александрия — город северный, и погода стояла сырая и холодная. Всю ночь мы дрожали от холода, лежа на каменном полу, на разорванных соломенных тюфяках, еле прикрытые рваными одеялами, кишевшими насекомыми.
Так провели мы три дня. Затем снова подъем в два часа ночи, кандалы, фургон, путешествие по комиссариатам за другими арестованными, вокзал.
Когда, выстроившись на перроне, мы ожидали посадки, к начальнику нашего отряда подбежал тюремный сторож с преувеличенно-взволнованным видом.