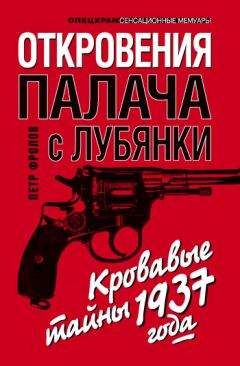Как только сыщики раскрыли свои намерения, мы изменили отношение к ним. Жена предложила им чай. Они несколько недоуменно посмотрели на нас, поблагодарили, но вежливо отказались, заметив, что не могут больше задерживаться. Поэтому я ускорил «приготовления». Взял буханку хлеба на дорогу. Начистил ботинки. Из вещей ничего не взял. Сыщики заметили, добродушно посмеиваясь, что меня наверняка сегодня же освободят и отпустят домой. При этом они согласились, чтобы я взял с собой две книги. С их стороны это было «милостью», приправленной изрядной долей доверия: речь шла о действительно «контрреволюционных» книгах, но знать этого сыщики не могли. Одна из них была на английском языке, который я незадолго до этого начал изучать: книга Моруа о Дизраэли. Вторая книга была на языке, названном ярым коммунистом-евреем «фашистским». Это был Ветхий Завет.
Я простился с д-ром Шайбом и Батьей. Жене разрешили проводить меня до машины, поджидавшей на некотором расстоянии от дома. Я сделал первый, решающий шаг в неизвестное: вышел за порог своего дома в качестве арестованного. Мы спустились во двор. Хозяева дома, глубоко верующие католики, опустили головы, когда я пожелал им всего хорошего. Возможно, они боялись. Но их несомненно поразила странная сцена: коммунистическое правительство арестовывает их квартиранта-еврея!
По дороге к машине я заметил своего друга Давида Ютина, уже несколько недель ждавшего ареста. Мы простились издалека — взглядами. С женой обменялись несколькими словами. Для долгих разговоров не было времени. Да и о чем можно много говорить в такие минуты? Я сказал, что, видимо, скоро вернусь, но в любом случае прошу ее не вызывать жалость у людей. Она ответила одним коротким предложением: «Не волнуйся, все будет в порядке».
— Не забудь сказать Шайбу, что в последней партии у него было преимущество, и можно считать, что он выиграл.
— Не забуду, — ответила жена.
Через несколько минут предоставленный мне роскошный лимузин свернул за угол, но я все еще видел перед глазами жену и прощальный взмах ее руки…
Вскоре мы подъехали к серому зданию в центре Вильнюса — управлению НКВД. Когда-то в длинных коридорах этого здания не умолкали голоса адвокатов, судей, подсудимых и полицейских: это был польский окружной суд. Осенью 1940 года отсюда словно ветром сдуло истцов, ответчиков и их адвокатов; остались, вернее — появились новые заключенные, стражники, судьи. Сцена нисколько не изменилась; сменились только действующие лица. И эта перемена более любых других символизировала, пожалуй, происшедший в нашей жизни революционный переворот.
В университете студенты-коммунисты часто пели песню, каждый куплет которой заканчивался словами «И судьями будем мы». В этой песне слышались одновременно глубокая вера и угроза страшной мести. Не думаю, чтобы эти бедные парни, идеалисты, всерьез намеревались стать судьями своих судей. Но они глубоко верили в возможность мести: наступит день, и судьи предстанут перед судом, тюремщики будут посажены в тюрьмы, а преследователи подвергнутся преследованиям. Это программа революции, хотя и не ее конечная цель. И вот этот день наступил. В здании, где польские судьи судили коммунистов, коммунисты судят польских судей. Однако многих моих несчастных сверстников, отчаянных борцов за коммунизм, эта месть не могла утешить: их прежние преследователи подверглись-таки преследованиям и судьи предстали перед новым судом, но сами-то они, приверженцы «нового мира» оказались не среди новых судей, они — на скамье подсудимых! Об их трагедии, равной которой нет в истории человечества, я еще расскажу. Я видел их восторг и видел их душевный надлом; я видел их на вершине счастья и видел в бездне человеческого отчаяния. В жизни я не видел более дикого восторга, более черного отчаяния, более глубокого падения.
С одним из новых судей, появившихся на «сцене справедливости», я столкнулся, едва переступив порог порогов советского государства — порог НКВД. Я сидел в обычной комнате у стола и читал о похождениях молодого Дизраэли. Вдруг в длинном коридоре послышались гулкие шаги, бесшумно открылась дверь, и я увидел двух арестовавших меня агентов и еще одного — нового. Нетрудно было догадаться: началось следствие.
Новый, оказавшийся следователем, сухо поздоровался, уселся за письменный стол напротив меня и спросил, как меня зовут (наверняка мое имя было ему известно). Я ответил. Второй вопрос касался раскрытой книги. Он не удовлетворился названием и попросил рассказать что-нибудь о ее авторе и содержании.
Это напоминало скорее не следствие, а дружескую беседу. Мы посмотрели друг на друга. Он глядел, моргая маленькими глазками, с пытливым интересом, характерным для людей его профессии; я был не первым подследственным, с которым он завязывал «дружескую беседу», а потом наносил неожиданный удар. Для меня же это был первый следователь НКВД, с которым меня столкнула жизнь. Передо мной открывался новый, полный таинственных загадок мир. Я знал, что за «изучение» этого мира взимается очень высокая «плата», но было какое-то удовлетворение в том, что я могу, хотя и в результате фантастических пертурбаций, познакомиться вблизи, изнутри с владыками царства НКВД, с их методами и стилем. Сидя напротив следователя, я чувствовал себя скорее не заключенным, а сторонним наблюдателем, учеником. Такова сила любознательности! Но далеко не все время пребывания в НКВД мне удавалось сохранять внутренний статус наблюдателя — часто оставался только статус заключенного. И все же но опыту могу сказать: в любых условиях стоит разбудить в себе любознательность, скрытую в каждом человеке. Даже если окажешься на дне жизни, в непроглядной тьме — открой пошире глаза и наблюдай, учись! Пока ты учишься, следователи-мучители не сумеют установить желанных им отношений: они «наверху», а ты — «внизу». Разговаривай с ними, как равный с равными. Тверди себе, что грубость и низость вокруг тебя есть одновременно и материал для познания, и тогда сумеешь выдержать испытание унижением и остаться человеком.
В ходе беседы-следствия я хотел понять характер своего следователя. Кто он, «чекист»? Типичный чекист, воспитанник школы, в которой преподают таинственные методы ломки человека? Как он будет меня допрашивать? Что он хочет вытянуть из меня?
Я не заметил ничего особенного ни во внешности, ни в поведении своего визави. Он был в гражданском сером костюме и при буржуазном галстуке. Похож немного на еврея, но быть в этом уверенным нельзя. Даже если его мать зажигала в канун субботы свечи, мне это не сулило никаких поблажек, но я много дал бы, чтобы узнать, верно ли мое предположение. Мой любопытный взгляд не ускользнул от следователя, он вдруг прервал беседу и сердито спросил: