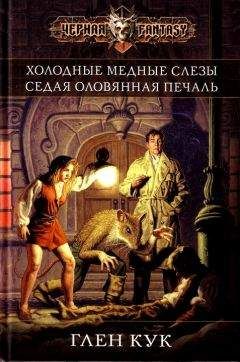— Ничего не знаю.
— Но откуда исходит это распоряжение; из Петербурга или отсюда?
— Отсюда, — отвечает смотритель, поворачиваясь к двери.
— Мы не можем подчиниться инструкции, — говорю я ему вдогонку, — она связывает по рукам и ногам. При ней дышать нельзя: нарушения неизбежны; вам придется сейчас же готовить карцер.
— И приготовим, — спокойно произносит смотритель.
Подобные же краткие разговоры происходят и в других камерах.
Мы взволнованы, встревожены и недоумеваем: откуда такая напасть? Состояние тюрьмы совершенно не давало к тому повода: жили мирно, никого не трогали и нас не трогали, почему же нам грозит восстановление старого режима, уничтожение всех маленьких улучшений, завоеванных на протяжении многих долгих лет? 18–20 лет, а некоторые больше, мы в тюрьме. Мы устали, состарились в ней. Кажется, можно бы дать нам покой и мирный труд. Так нет же, опять хотят историй, шумных столкновений и стычек. Старой инструкции мы вынести уже не можем: мы не новички, наше настроение не то, что было в первые годы. Наши нервы обнажены и не могут не реагировать с неудержимой силой.
Тревожен и беспокоен этот вечер: кто лихорадочно бегает взад и вперед по камере; кто неподвижно лежит на койке; не читается книга и падает из рук. Иной совещается то с одним, то с другим соседом путем традиционного стука в стену. Нервы напряжены, как натянутые струны: что предстоит нам, чем вызвана репрессия? Опять неизвестность. Опять мы «слепцы» Метерлинка. В тюрьме все было благополучно, значит, на воле что-то произошло? Какая-нибудь катастрофа? Событие мировой важности? Воображение работает, возбуждение растет, и в ту же ночь прорывается в сценах, небывалых в стенах Шлиссельбурга даже в первые годы.
В десятом часу настороженное ухо слышало, что в дальнем конце дверная форточка одной камеры верхнего этажа была отперта, а потом хлопнула. Минут через десять тот же звук повторился, и послышался краткий разговор. И в третий раз произошло то же самое.
В нижнем этаже началось движение; затем дверь той же далекой камеры верхнего этажа была отперта, и жандармы потащили из нее что-то тяжелое. Было ясно — несут человеческое тело; толпа жандармов несла кого-то за руки и за ноги. Послышался хрип.
В одну минуту вся тюрьма стала у дверей и с напряжением слушала; мыслью каждого было; кто-то покончил с собой; и каждый стал звать дежурных, спрашивая, что случилось. Жандарм приоткрывал «глазок», но ни один голос не отвечал.
Внезапно раздался голос коменданта и пронеслось слово:
— Развяжите!
Значит, кто-то повесился… Руками, ногами, книгами, шваброй каждый бил в дверь и кричал:
— Что случилось?
Голос коменданта ответил:
— 28-й нарушает дисциплину[101].
Как! Человек покушается на свою жизнь, и это называют нарушением дисциплины?!
Все двери загрохотали. Кто-то на всю тюрьму закричал: «Караул!» Оглушительные удары сыпались справа, слева, внизу и наверху. Тюрьма неистовствовала.
И в третий раз повелительно раздался громкий голос коменданта Обухова:
— Доктора!
Яростное безумие охватило нас: тюрьма превратилась в буйное отделение умалишенных.
Наутро измученные, с упавшими нервами мы вышли в восемь часов на обычную прогулку. Ближайшие соседи Сергея Иванова объяснили, в чем дело. Раздраженный частым заглядыванием в дверной «глазок», он отказался снять бумажку, которой закрыл стекло.
Напрасно смотритель три раза уговаривал его не делать этого — Иванов не повиновался; смотритель потребовал, чтоб Иванов шел в карцер, — Иванов не двинулся. Тогда жандармы надели на него смирительную рубашку и при насмешках коменданта связали ослушника, а затем понесли в соседнюю пустую камеру, которая на этот раз должна была служить карцером; но когда жандармы выносили его, с ним случился припадок истероэпилепсии, как объяснил потом тюремный врач.
Тогда-то комендант и крикнул: «Развяжите!» — и мы решили, что кто-то повесился.
Сергей Иванов лежал в обмороке, и жандармы старались привести его в чувство, но после бесплодных усилий пришлось крикнуть доктора.
По той или другой причине он пришел не тотчас же, а потом не сразу мог привести Иванова в чувство: обморок продолжался минут сорок.
Подавленные, мы выслушали этот рассказ. Что было делать? Такие сцены могли повториться и завтра, и послезавтра — невозможно было выносить их. Ни физических, ни нравственных сил на это не хватило бы. Отпор был необходимым, но в какую форму должен вылиться этот отпор? Оставить дело без протеста было немыслимо: нас задушили бы; реагировать надо было во что бы то ни стало.
Среди нас была полная растерянность: одни предлагали шаблонный путь самоистязания — отказ от прогулки; другие говорили о бойкоте коменданта, прервать с ним все сношения вплоть до отказа принимать из его рук письма от родных. Понурив головы, неудовлетворенные, мы разошлись, ни на чем не остановившись.
Прошел мучительный день. Каждый про себя ломал голову над вопросом: что будет дальше, что предпринять?
К вечеру у меня явилась мысль написать матери очередное письмо в несколько строк такого содержания, что департамент полиции ни в коем случае не пропустит его, но сам прочтет и заинтересуется: что такое произошло в крепости? — и уж, конечно, не оставит дела без расследования.
Я написала:
«Дорогая мамочка. Я совсем собралась отвечать вам, но произошло нечто перевернувшее все вверх дном. Обратитесь к министру внутренних дел или к директору департамента полиции, чтобы они произвели расследование на месте.
3 марта 1902 года. Ваша Вера».
Я сообщила содержание письма ближайшим товарищам и в тот же вечер сдала письмо смотрителю.
— Не передадут твоего письма в департамент, — сказал Морозов.
Сомневались и другие. Не сомневалась я.
Наутро все сидели дома: лишь несколько человек, в том числе и я, вышли на прогулку.
Меня привели в шестой огород, который считался моим. Большие сугробы наметенного за зиму снега лежали на всем пространстве; оставалась одна протоптанная дорожка, по которой я обыкновенно ходила и которую ежедневно расчищала.
Рядом, в пятом огороде, на этот раз был Поливанов. Кругом было тихо: не слыхать было ничьих голосов. Мы стояли грустные у решетки и тихонько разговаривали. На вышке, прислушиваясь, стоял жандарм.
— Вот случай, достойный протеста Веры Засулич, — говорила я, размышляя вслух, — не жалко за такой протест отдать жизнь.
И потом:
— Не страшно умереть — страшно быть изолированной от всех. Если заключат в старую тюрьму, заключат навсегда? Одну… одну с жандармами… Без книг… Это хуже, чем смерть… Нельзя два раза пережить то, что мы пережили в первые годы. Жизненные силы теперь не те — я сошла бы с ума… Безумие, безумие — вот что страшно.