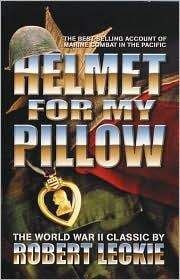Однако часовой оказался быстрее и сообразительнее, чем все мы.
Он отпрыгнул назад, чтобы держать в поле зрения Хохотуна и Цыпленка, и, вскинув винтовку на плечо, дослал патрон. Услышав характерный щелчок, я замер. Мы все замерли, уставившись на часового в недоумении и ужасе.
— Ты что, сдурел, парень? Принял нас за проклятых япошек? Опусти немедленно свое ружье!
Несколько секунд часовой таращился на нас, разинув рот от удивления. Похоже, гневные слова Хохотуна упали на плодородную почву, о существовании которой парень даже не подозревал. Выражение его глаз изменилось — казалось, теперь он видел в нас совершенно других людей, не абстрактных нарушителей, которых ему было приказано задерживать, а обычных морских пехотинцев, таких же, как он сам, солдат одного батальона. Растерявшись, он начал опускать винтовку. Но было уже слишком поздно.
Из большой темной тени, отбрасываемой судном, вышел дежурный офицер.
Увидев, что это лейтенант Рысак, я непроизвольно напряг мускулы живота, словно готовился принять пулю. Дело в том, что Рысак был самым способным, самым уважаемым и в то же время самым кровожадным из командиров нашего батальона. Его боялись больше, чем кого бы то ни было другого. Я стоял с поднятыми руками и смотрел, как он приближается, как на ходу выхватывает пистолет и зовет охранника-капрала. Мне уже приходилось видеть его раньше, правда, издалека. Он шел по нашим позициям на Гуадалканале и практиковался в выхватывании пистолета, спрятанного за спиной. Он учился быстро выхватывать оружие и стрелять, причем, вполне возможно, с этим же пистолетом, который он сейчас держал в руке и дуло которого упиралось мне в живот.
Он взглянул на меня из-под каски, но никакие эмоции не отразились на его уверенном, бесстрастном лице с большим носом и маленькими, широко расставленными глазами.
— Обыщите их, — приказал он и сильнее вдавил пистолет в мой многострадальный живот.
— Зачем вы хотите меня обыскать? — спросил я. — Вы же меня знаете, лейтенант, я вовсе не из пятой колонны.
— Обыщите их, — повторил лейтенант, и охранник подчинился. Ему явно было стыдно.
— Дайте нам шанс, лейтенант, — заговорил Хохотун, чем чрезвычайно меня удивил. Но потом я вспомнил, что Рысак прошел весь путь от солдата до офицера, и предположил, что Хохотун взывает к нему именно по этой причине.
— Сегодня никаких шансов, — заявил Рысак. Его голос был строг и сух. — Вам следовало думать, когда вы сбегали с корабля на берег без увольнительной и без форменной одежды. — Он холодно оглядел нас и сказал: — Часовой, займите место позади этих людей и прикрывайте их.
— Да ладно, лейтенант. — Хохотун не терял надежды. — Мы не сделали ничего плохого. Сегодня ночью весь второй батальон был на берегу. Нам просто не повезло — вы нас застукали.
— Далеко не только вам. Я поймал дюжину ваших, решивших пройти через ворота. И всех отпустил. Но только не вас. Я наблюдал, сколько вы проявили изобретательности, чтобы остаться незамеченными. Вы, парни, слишком уж хитры. Если бы я был на месте часового, вы бы уже были мертвецами.
Он довел нас до «Манооры», вверх по сходням, потом в носовую часть судна и вниз по трапу, в дыру, освещенную единственной тусклой электрической лампочкой. Это было помещение для арестованных. Не каюта, а небольшой закуток, образованный в месте соединения правого и левого бортов «Манооры». Здесь были отлично видны шпангоуты — ребра судна. Здесь и одному человеку невозможно было повернуться, а троим и подавно. Нас буквально запихнули в эту дыру, а когда люк захлопнулся, мы увидели закрепленную на переборке табличку с надписью: «Это помещение сертифицировано для содержания одного матроса среднего телосложения». Мы переглянулись, пересчитав друг друга, и захохотали.
Потом мы заснули. Хохотун, как самый тяжелый, лег на палубу, я на него, а Цыпленок на меня.
Мы проснулись, почувствовав, что находимся в море. Нос корабля то взлетал вверх, то опять падал вниз. Мы, лежа друг на друге в тесной поре, ощущали эти чередующиеся взлеты и падения, наверное, лучше, чем кто-либо другой. Наша клетка содрогалась вместе с движениями «Манооры». Мы мерно вздымались и падали — иногда с головокружительной быстротой, иногда медленно, плавно. Резкое падение, когда все внутренности поднимаются вверх, было самым неприятным. Но мы не ощущали дискомфорта и даже не были огорчены. Движение судна означало, что маневры начались, следствием чего, как мы решили, будет повышенная занятость наших командиров, которым будет некогда наказывать нас за совершенный проступок.
Мы оказались не правы.
* * *
И снова хлеб и вода. В помещении гауптвахты, куда мы попали вместе с Цыпленком, было оживленно. В результате короткого судебного заседания под председательством начальника штаба батальона я лишился нашивок рядового 1-го класса, которые только недавно снова получил, был оштрафован и отправлен на хлеб и воду на десять суток. Цыпленок был наказан так же строго. А Хохотун избежал гауптвахты, вторично поплатившись парой капральских шевронов.
На гауптвахте нас приветствовали радостными возгласами:
— Вы только посмотрите, кто вернулся!
— Добро пожаловать на борт, друг!
Это было похоже на встречу выпускников. Почти все обитатели гауптвахты уже были здесь раньше, поэтому все друг друга знали. Даже охранники казались обрадованными.
Наше появление прервало выборы. Это была регулярная процедура — выборы мэра гауптвахты. Это были самые честные и справедливые выборы на моей памяти. У кандидатов учитывалось только два фактора: частота заключений и продолжительность службы. Выборы проводились всякий раз, когда у очередного мэра заканчивался срок заключения и он освобождал должность.
Один из кандидатов произнес пространную речь, изобиловавшую обещаниями страшной мести офицерам и бесчисленных привилегий для заключенных. Его соперником был наш Пень. Он был краток.
— У него короткий срок, — презрительно заявил он о своем оппоненте, — и он здесь всего лишь второй раз. А у меня, — тут он ткнул себя пальцем в грудь, — уже четвертая ходка, и еще осталось пятнадцать суток.
Пень был избран абсолютным большинством голосов.
— Мои поздравления, господин мэр, — сказал я, но достойно ответить он не успел — как раз принесли ящик с хлебом. Все рванулись к нему, я тоже не отстал. Человек быстро привыкает к лишениям.
Пень налил из крана фляжку воды, а большой ломоть хлеба разломал пополам.
— Сейчас я сделаю сэндвич, — доверительно сообщил он.
— С чем? — фыркнул я. — С воздухом?