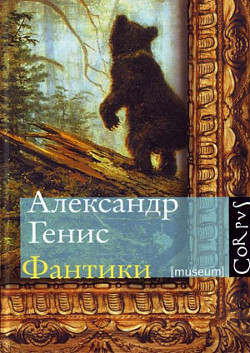от книги к книге, приобретая сверхъестественные способности и теряя человеческие черты. Так продолжалось до тех пор, пока он окончательно не оторвался от Homo sapiens, чтобы стать “люденом” – новым, напугавшим уже и авторов существом, у которого не осталось ничего общего не только с нами, но и с жителями светлого будущего.
Всякая утопия, если в нее слишком пристально вглядываться, становится своей противоположностью.
29 августа
Ко дню рождения Майкла Джексона
По зверски освещенной сцене масскульта он двигался легко и непринужденно, как тень или сошедшая с экрана иллюзия. Неудивительно, что, воплотивши в себе дух времени, Джексон стал любимым персонажем постмодернистских штудий. Он, казалось, первым стряхнул с себя груз человеческого. В нем все было зыбким – возраст, пол, раса, и ничего истинного, постоянного, своего. Весь он был не от мира сего, будто с Луны упал. Понятно, почему Майкл Джексон придумал себе “лунную походку”. Глядя на этот завораживающий танцевальный шаг, легко вообразить, что закон всемирного тяготения действует на Майкла Джексона в меньшей степени, чем на всех остальных.
То, что это не так, выяснилось, когда он перестал отличать жизнь от искусства. Байрон масскульта, выродившийся наследник романтической традиции, Майкл Джексон пытался сбежать в созданный им на немереные деньги вымышленный мир с настоящими жирафами и малолетними поклонниками. Все остальное можно считать местью действительности за попытку насилия над собой. Расшатав в себе чувство реальности, певец впал в социальную невесомость. Всю жизнь играя пришельца, он и впрямь им стал.
30 августа
Ко Дню пляжа
Пляж для меня, казалось бы, родина. Я вырос в песке и возмужал в дюнах. Живя у моря, мы редко обходились без него, невзирая на сезоны. Тем более что на Рижском взморье разница между ними не столь существенна. Зимой, правда, можно было провалиться под лед, но и летнее купание действовало освежающе даже на “моржей”. Зато я нигде не встречал пляжа лучше нашего. Аккуратно окаймляя Балтию, он казался бесконечным и был бы им, если б не пограничники. Мне, впрочем, пляжа хватало – чтобы играть в волейбол и преферанс, слушать (глушить труднее) Би-би-си и “Свободу”, гулять с друзьями и девушками, глядеть в сторону Швеции и наблюдать закаты.
В Америке всё по-другому, и солнце садится в Пенсильванию. Из твердого песка выходят замки тяжелого романского стиля, лишенные нашей готической закрученности. В волейбол играют через сетку – до победы, а не измождения. Флиртуют, стоя на доске в волнах прибоя. Купаются в трех шагах от берега, но и сюда заплывают акулы.
Помимо семейных пляжей бывают пляжи экстравагантные: скалистые в Мэне, заливные в Массачусетсе, черные на Гавайях, гомосексуальные на Файер-Айленде. Последний – наиболее оригинальный, потому что там нет детей, звучит оперная музыка, цветет однополая любовь и запрещено делать все остальное: есть, ездить, петь и лаять. По сравнению с этим заграничные пляжи лишены экзотики.
Радости тропического курорта всегда одинаковые: молодым – пара, дамам – покупки, пожилым – казино и всем – бульварное чтиво. Отпускные книги покупают в аэропорту и открывают в самолете. Однажды по пути в Канкун я специально прошел по салону и убедился, что на каждой обложке голое тело. У одних – женское, у других – мужское, у третьих – лошадиное.
– Конь, – объяснил мне знакомый иллюстратор, – символизирует страсть, подразумевает похоть и утраивает тираж.
Удовлетворив любопытство, я вернулся на место и достал купленный в дорогу сборник Бродского On Grief and Reason.
– “Горе от ума”, – неверно, но точно перевела жена и сказала, что я хуже Вуди Аллена.
Сентябрь
3 сентября
Ко дню рождения Сергея Довлатова
Довлатова по-прежнему любят все – от водопроводчика до академика, от левых до правых, от незатейливых поклонников до изощренных книжников. От тучных лет перестройки, вместе с которой Сергей возвращался в литературу метрополии, осталось не так уж много имен. Кумиры гласности, ради книг которых мечтали свести отечественные леса и рощи, остались в старых подписках толстых журналов. Но тонкие довлатовские книжки так и стоят не памятником эпохи, а на полке для живого чтения.
Говорят, что вернувшийся в Россию Солженицын спросил, что тут без него появилось хорошего. Ему принесли первый том Довлатова, потом – второй, наконец – третий. И это при том, что в Америке Солженицын, которому Сергей посылал каждую свою книгу, Довлатова не замечал, как, впрочем, и всю нашу третью волну.
Сегодня тайну непреходящего успеха Довлатова ищут многие. Снимают фильмы, пишут статьи, устраивают конференции и фестивали. Но мне кажется, что секрет его письма лежит на поверхности, где, словно в хорошем детективе, его труднее всего заметить. Как мастер прозы Сергей создал благородно сдержанную манеру, скрытно контрастирующую с безалаберным, ущербным, но обаятельным авторским персонажем. Вооруженный этим приемом Довлатов вошел в отечественную словесность, избегая, в отличие от его многих питерских соратников, авангардного скандала. Сергей ведь никогда не хотел изменить русскую литературу, ему было достаточно оставить в ней след. По своей природе Довлатов – не революционер, а хранитель. Ему всегда казалось главным вписаться в нашу классику. Что он и сделал.
За годы, которые прошли со дня преступно ранней смерти Довлатова, в русской литературе перепробовали всё на свете: соц-арт, постмодернизм, передергивание, комикование, стеб. И чем больше экспериментов, тем быстрее устает читатель. На этом фоне здоровая словесность Довлатова и стала неотразимой, ибо он – нормальный писатель для нормальных читателей. Сергей всегда защищал здравый смысл, правду банального и силу штучного, к которому он относил простых людей, зная, впрочем, что ничего простого в них не было.
5 сентября
Ко дню рождения Каспара Фридриха
В 1805 году немецкий живописец, которому еще только предстояло стать любимым художником романтической Германии и занять привилегированное место в личной коллекции Николая I, нарисовал окно своей студии и совершил открытие.
Окно, конечно, и раньше входило в живопись, но у Фридриха окно не просто вышло на первый план, оно его узурпировало. Раньше окно было всего лишь дырой для света, теперь оно стало порогом познания. Фридрих нарисовал гносеологический инструмент. Его окно – метафизическая конструкция, которая своим существованием задает вопросы о природе реальности.
Мы знаем два мира – тот и этот, но к какому из них принадлежит окно, расположившееся буквально на границе потустороннего? Если картина – окно в стене, то что же такое окно в окне? В какую реальность оно смотрит? И где располагается зритель? Внутри или снаружи? И какая из двух иллюзий – комнатная или заоконная – ближе к нашей действительности? На эти вопросы нет ответа, потому что художник искусно подвесил наше суждение о том, что изобразил.
Фридрих создал символический портрет человеческого познания. Его возможности, как учила еще новая тогда философия Канта, определяются формой “окна”, из которого мы глядим наружу. Запертые в сумрачной комнате нашего “Я”, мы не в силах добраться до