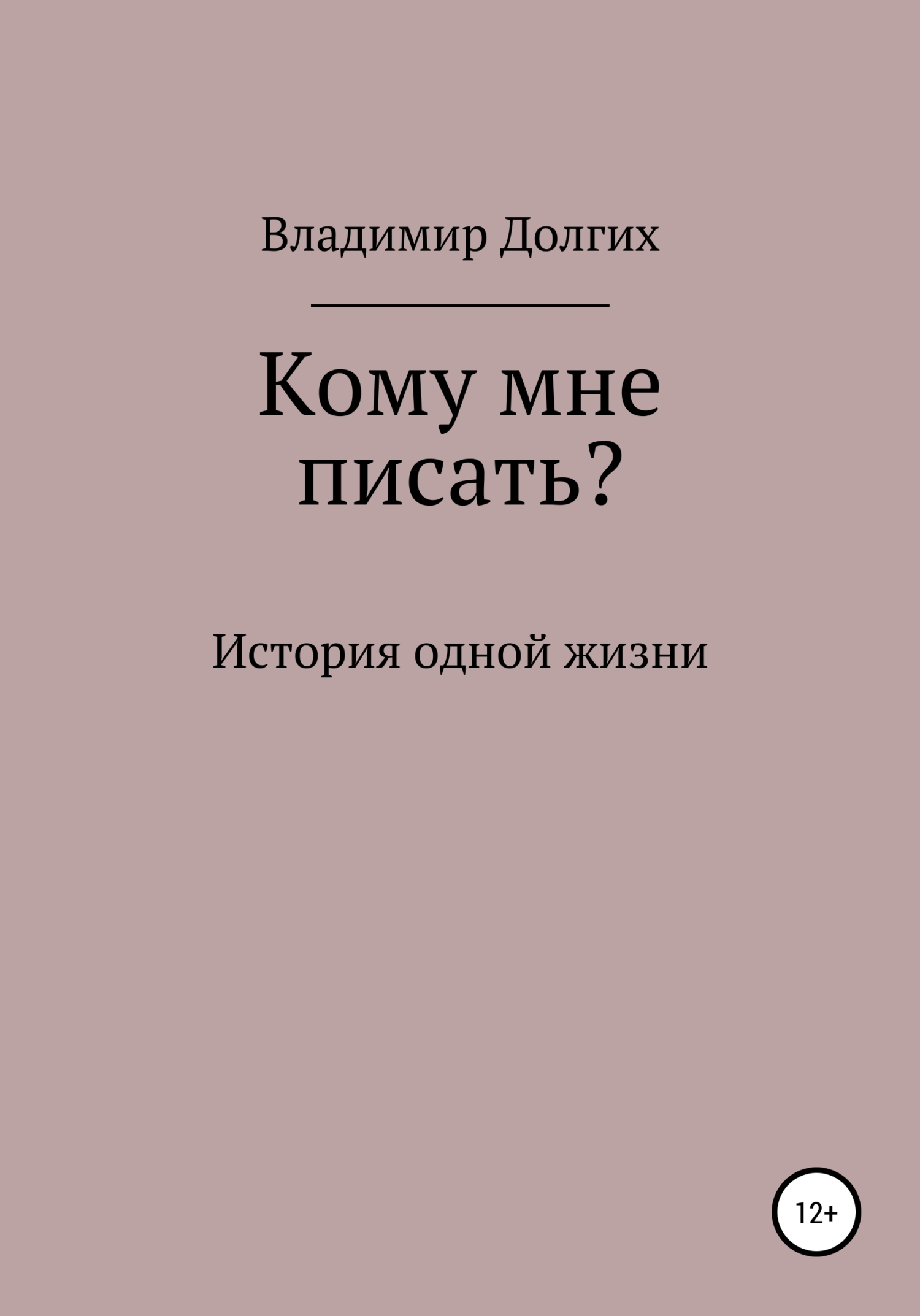в Мексике, которая носила брюки не только у бассейна.
Было приятно, что она со мной заговорила. Две женщины, что обособленно жили в двухквартирном доме на том конце, в кафе на площади не появлялись. Проходя мимо моего дома к машинам или бассейну, они никогда не пытались переброситься со мной парой слов. Я знала, что одна из них владела в центре магазином La Señora, где продавались самые интересные наряды.
– Вы разве не слышали, что только бешеные собаки и англичане выходят на полуденное солнце?
Я прикрыла глаза рукой, чтобы получше ее разглядеть. Любопытство мое оказалось сильнее, чем я думала.
– Я не так легко обгораю, – ответила я. На ее лице, полузатененном створками оконной рамы, улыбка казалась кривоватой. Голос был сильным и приятным, но надтреснутым, словно она простудилась или слишком много курила.
– Я как раз собиралась выпить кофе. Хотите со мной?
Я встала, подобрала покрывало, на котором лежала, и приняла ее предложение.
Она ждала в дверном проходе. Я узнала в ней седую женщину, которую прозвали La Periodista.
– Я Евдора, – представилась она, крепко пожимая мою руку. – А вас тут зовут La Chica, вы из Нью-Йорка и учитесь в новом университете.
– Откуда вы это всё знаете? – удивилась я. Мы вошли внутрь.
– Это моя работа – узнавать, что происходит, – рассмеялась она. – Вот чем занимаются репортеры. Собирают сплетни на законных основаниях.
Просторная яркая комната Евдоры была уютной и неопрятной. Большое мягкое кресло, перед ним кровать, заваленная книгами и газетами, на которую она, в своей рубашке-поло и шортах, уселась, скрестила ноги по-турецки и закурила.
Может, дело было в ее прямоте. Может, в откровенности, с какой она меня оценивала, указывая на кресло. Может, в шортах или в осознанной свободе и властности, с какими она двигалась. Но, едва войдя в ее дом, я уже знала, что Евдора лесбиянка, и это был приятный долгожданный сюрприз. Вот почему я почувствовала себя как дома и расслабилась, хотя всё еще переживала и винила себя из-за фиаско с Беа. Но мысль о том, что я не одна, бодрила.
– Я пила неделю, – сказала она, – и всё еще мучаюсь похмельем, так что извините за беспорядок.
Я не нашлась с ответом.
Евдора хотела узнать, что я делаю в Мексике – молодая, Черная и с наметанным на леди глазом, как она выразилась. Это стало вторым сюрпризом. Мы от души посмеялись над неуловимыми намеками, что помогают таким, как мы, угадать друг друга. Евдора стала первой известной мне женщиной, которая называла себя только «лесбиянкой», а не «гей» [14] – это слово она ненавидела. Евдора сказала, что этот термин с восточного побережья северной америки для нее ничего не значит и что большинство ее знакомых лесбиянок – какие угодно, только не жизнерадостные.
После обеда я купила для нее на рынке молока, яиц и фруктов. Пригласила ее на ужин, но она не хотела есть, поэтому я приготовила себе еды, взяла ее с собой и поужинала у Евдоры. Ее мучила бессонница, так что мы проболтали до самой поздноты.
Она оказалась самой потрясающей женщиной, какую мне когда-либо доводилось встречать.
Евдора родилась сорок восемь лет назад в Техасе – младший ребенок в семье рабочего-нефтяника. У нее было семеро братьев. В детстве она три года пролежала в кровати из-за полиомиелита, «поэтому мне многое приходилось наверстывать, и с тех пор я и не знаю, как остановиться».
В 1925 году она стала первой женщиной в Техасском университете и положила начало совместному обучению. Разбила палатку на территории кампуса и жила там, с ружьем и собакой. Братья поступили туда же до нее, и она решила, что последует за ними.
– Мне сказали, что женского общежития у них нет, – рассказывала Евдора, – а позволить себе снять квартиру я не могла.
Она всю свою жизнь проработала в новостной службе, в прессе и на радио, и последовала за своей любовницей, Франц, в Чикаго, где их взяли в одну газету.
– Команда из нас получилась неплохая. Хорошее было времечко: много дурачились, верили во всякое. Потом Франц вышла замуж за международного корреспондента в Стамбуле, – сухо продолжила Евдора, – а меня турнули из-за того, что написала про случай в Скоттсборо.
Какое-то время она работала в мексиканской газете в Техасе, потом ради нее же переехала в Мехико.
В более либеральные сороковые они с Карен, владелицей La Señora, в которой были тогда в отношениях, открыли в Куэрнаваке книжный магазин. На какое-то время он стал местом сбора американцев, недовольных властью. Так она познакомилась с Фридой.
– Люди приходили туда узнать, что творится в штатах на самом деле. Все там перебывали, – она помолчала. – Но на вкус Карен книжный стал слишком радикальным, – осторожно продолжила Евдора. – Магазин одежды ей подходит больше. Но это совсем другая история, и она всё еще должна мне денег.
– А что случилось с книжным? – спросила я, не желая казаться назойливой, но плененная рассказом.
– Ох, много чего случилось, и всё сразу. Я всегда крепко пила, а ей это не нравилось. Потом, когда мне вздумалось высказать в своей колонке мнение о деле Собелла и в газете стали зудеть, Карен решила, что меня уволят. Не уволили, но иммиграционный статус изменили: работать в Мексике я по-прежнему могла, а вот владеть недвижимостью – нет. Так они заставляют нахальных американок заткнуться. Не раскачивай лодку большого брата – тогда позволим остаться. Всё это сыграло Карен на руку. Она выкупила мою долю и открыла этот одежный магазин.
– Так вы поэтому разбежались?
Евдора засмеялась:
– О, нью-йоркский говорок, – она помолчала с минуту, вытряхивая переполненную пепельницу.
– На самом деле нет, – наконец произнесла она. – Мне сделали операцию, и это тяжело далось нам обеим. Радикальная хирургия, из-за рака. Мне удалили грудь, – голова Евдоры склонилась над пепельницей, волосы падали вперед, и я не видела ее лица. Я потянулась и тронула ее руку.
– Мне очень жаль, – сказала я.
– Ага, и мне, – ответила она как ни в чём не бывало и поставила полированную пепельницу на столик около кровати. Подняла голову, улыбнулась и тыльной стороной обеих ладоней откинула с лица волосы. – Времени и так никогда не хватает, а я еще жутко много всего хочу сделать.
– А сейчас вы как себя чувствуете, Евдора? – я вспомнила ночи, проведенные на этаже женской хирургии в Бет-Дэвид. – Вам делали облучение?
– Да. Почти два года прошло с последнего сеанса, и сейчас всё хорошо. Но шрамы – это другое дело. Не лихие, не романтичные. Я сама не очень-то люблю на них смотреть, – она встала, сняла со стены гитару