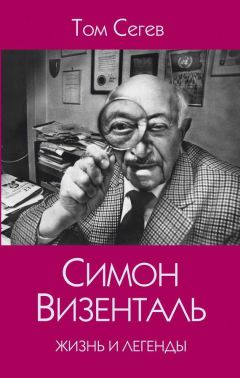В Австрию он вернулся в очень приподнятом настроении. «Общаясь с вами, – писал он сотрудникам “Яд-Вашем”, – я испытывал невыразимое счастье», – и отмечал, что уже много лет не удостаивался такого к себе отношения, какого удостоился в Иерусалиме. Таким счастливым он не был со дня рождения своей дочери. Эйхмана поймали; он в этом участвовал; его участие получило признание – одним словом, все было прекрасно. Даже книгу и ту он успел опубликовать в самый подходящий момент, примерно за шесть недель до начала суда над Эйхманом.
Судебный процесс над Эйхманом состоялся в Иерусалиме, в здании «Бейт-Аам» (зал которого был специально оборудован так, чтобы в нем могли работать представители мировых СМИ), и открылся 11 апреля 1961 года. Через несколько недель после этого Визенталь увидел Эйхмана впервые, лицом к лицу. Он был поражен. Человек, сидевший в клетке из непробиваемого стекла, был совершенно непохож на чудовище, которое все ожидали увидеть. У него не было «наводящих ужас глаз» и «хищных рук» (как позднее писал прокурор Гидеон Хаузнер). Это был человек в костюме, лет пятидесяти пяти, с залысинами, в очках, с нервно подрагивавшими уголками губ, который сидел и все время перелистывал папку с документами. Его внешность была абсолютно неприметной. «Князь тьмы рядится в дворянина», – процитировал Хаузнер шекспировского «Короля Лира», но Визенталь считал, что суд произведет более сильное впечатление, если Эйхман будет выглядеть как нацистский преступник, и предложил Хаузнеру переодеть его в эсэсовскую форму. Если бы это было возможно, говорил Визенталь, стоило бы также потребовать, чтобы Эйхман ответил на вопрос, признает ли он себя виновным шесть миллионов раз.
Медленным началом процесса Визенталь был недоволен. У западногерманского защитника Роберта Сервациуса было много претензий к суду, и некоторые из прибывших на процесс звезд мировой журналистики стали угрожать отъездом. Прокурор Хаузнер об этом знал и начал свою обвинительную речь словами, удостоившимися громких заголовков и вошедшими в историю. «Здесь, на этом месте, где я стою перед вами, судьи Израиля, чтобы предъявить обвинения Адольфу Эйхману, – сказал он, – я стою не один. Вместе со мной здесь находятся в данный момент еще шесть миллионов обвинителей».
Такое начало ясно показывало, каким планировалось сделать этот суд. По замыслу, он должен был воздействовать скорее на эмоции, чем на разум, и на нем не предполагалось давать глубокий анализ факторов, повлиявших на приход нацистов к власти, составляющих элементов мощи нацистского режима и причин, заставивших миллионы людей в нацизм поверить и его поддержать. Не предполагалось на этом суде также анализировать сущность расизма вообще и немецкого антисемитизма в частности и не планировалось рассматривать вопрос о том, что позволило нацистам использовать властные бюрократические механизмы, чтобы убивать евреев. По словам Хаузнера, именно Адольф Эйхман «планировал, инициировал, организовывал и приказывал другим проливать океаны крови», но первые слова его вступительной речи свидетельствовали о том, что в центре судебного разбирательства будет находиться не Эйхман, а страдания еврейского народа.
Бен-Гурион – в своих письмах и в интервью, которые он давал перед началом суда, – подчеркивал, что как человек Эйхман его совершенно не интересует; значение для него имел только сам по себе исторический судебный процесс над ним. Он надеялся, что этот процесс заглушит голоса тех, кто обвинял еврейское руководство Палестины в том, что во время Холокоста оно не занималось спасением евреев, и тех, кто выступал против установления связей между Израилем и Западной Германией.
Бен-Гурион лучше всех понимал, что Израиль страна слишком молодая, что ее население еще не превратилось в «израильский народ», и хотел, чтобы израильское общество испытало коллективное, всеохватное, патриотическое, очищающее переживание, своего рода национальный катарсис. Кроме того, он надеялся, что суд над Эйхманом заставит весь мир понять, что израильтяне – единственные законные наследники шести миллионов погибших во время Холокоста евреев и что арабские государства, желающие Израиль уничтожить, пытаются довести до конца преступление, начало которому положила нацистская Германия.
В Иерусалиме Визенталь провел несколько недель в качестве гостя израильского правительства. Свидетельские показания, которые он слышал на суде, были ужасными, но мало добавляли к тому, что он знал и без того, в том числе и на собственном опыте. Хорошо, что Эйхмана не поймали раньше, говорил он позднее. Если бы Эйхман предстал перед судом в Нюрнберге вместе другими военными преступниками и был американцами казнен, факт истребления евреев не приобрел бы в глазах всего мира той значимости, которой он заслуживает, и не вошел бы в анналы истории. Как выразился Визенталь, в этом случае «никто бы даже не пикнул».
Во время Второй мировой войны погибло больше людей, чем в любой из предыдущих войн: семьдесять пять миллионов человек, из которых пятьдесят миллионов были гражданскими лицами, – и тот факт, что среди погибших было несколько миллионов евреев, в Нюрнберге не скрывался. Однако упоминался он лишь наряду с другими совершенными нацистами преступлениями против человечества. Кроме того, Нюрнбергский процесс был, как правило, основан на документах и в центре его внимания находились преступники. Суд же над Эйхманом был посвящен не всем преступлениям нацистов вообще, а в первую очередь их преступлениям против еврейского народа, базировался в основном не на документах, а на свидетельских показаниях, и в центре внимания на нем находились не преступники, а жертвы.
Визенталь ничего не имел против того, чтобы факт истребления евреев использовался в качестве доказательства справедливости сионистской идеологии и для оправдания существования Государства Израиль, но желание израильтян присвоить себе монопольное право на Холокост его смущало. Сидя на заседаниях суда, он размышлял о природе нацистского зла и каждый раз, когда смотрел на сидящего в стеклянной клетке Эйхмана, испытывал острую потребность понять его психологические мотивы и душевное устройство.
Своими показаниями Эйхман себе только вредил. Он говорил длинными запутанными предложениями, уснащал свою речь нацистскими бюрократическими терминами, всячески старался понравиться суду и вел себя так, словно речь шла всего лишь о каком-то недоразумении, которое надо было попросту разъяснить. Он говорил, что решение убить всех евреев было принято не в его отделе, а в другом, что те решения, которые принимались в его отделе, принимались не им, а его начальством, что он всего лишь выполнял чужие приказы и был инструментом в руках людей, которые были сильнее его. Поэтому нет смысла спрашивать его, раскаивается ли он. Он, разумеется, признает, что истребление евреев стало одним из самых ужасных преступлений в истории человечества, но он был только маленьким винтиком большого механизма и, подобно Понтию Пилату, прокуратору Иудеи в эпоху распятия Иисуса, «умывает руки». Однако если бы ему приказали убивать евреев лично – например, в Освенциме, – то он, дабы разрешить противоречие между солдатским долгом и совестью, пустил бы себе пулю в лоб.