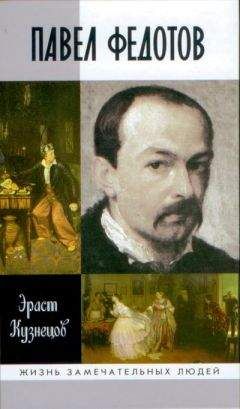Герой всякого портрета существует для будущего зрителя: в интимном портрете — для одного-двух, в парадном — для многих. Даже тогда, когда он в так называемом жанровом портрете будто бы занят самим собою, не смотрит с холста, углубленный в свои занятия, — говорит с кем-то, пишет, гуляет, работает, — тут все равно есть немного от театра: это он «представляется», а не живет реальной жизнью.
Герои Федотова тоже позировали, но не какому-то будущему зрителю, а живому человеку, сидящему перед ними, самому художнику, их доброму знакомцу Павлу Андреевичу, пришедшему к ним в дом и расположившемуся со своими кистями, красками и маленьким холстиком. Они были застигнуты за этим делом, и делом настоящим, не инсценированным для зрителя. Позировать — тоже занятие, и занятие нешуточное, и каждый ведет себя так, как ему присуще, в зависимости от того, каков он и каковы его отношения с художником: кто-то напряжен и не может этого скрыть, кто-то доброжелательно снисходит к заботам живописца, кто-то, скучая, отбывает неизбежную повинность дружбе — словом, каждый приоткрывается в естественности своего существования.
В обычном портрете, тем более федотовского времени, человек большей частью обособлен от своей жизненной среды и взамен нее помещен в другую, специально для него и его характеристики сочиненную, подчас отвлеченную, даже фантастическую. Федотова подобные заботы не занимали. Ему не было нужды сочинять своим персонажам специальное окружение, живописуя за их спинами романтическую руину с купами деревьев, или колоннады и драпировки роскошного дворцового зала, или окно со стоящим на нем в стакане нежным цветком, или статую музы, вырисовывающуюся в пустоте фона, — все это было ему ни к чему.
Каждого своего персонажа он запечатлевал в его домашней обстановке, не брезгуя «случайным», не откидывая «ненужного», не добавляя «характерного», запечатлевал вместе и едва ли не наравне с вещами, среди которых тот жил, — с креслами, стульями, книжными полками, обоями за спиной, диванами, портретами, зеркалами, канделябрами, часами в стеклянном футляре, домашними деревцами в кадках, колокольчиком для прислуги, подсвечником, чернильным прибором, очиненными перьями в вазочке, статуэткой Наполеона на письменном столе, карандашом, затерявшимся среди бумаг, футляром для очков, стаканом с недопитым чаем и ложечкой в нем, книжкой, раскрытой на недочитанной странице, шкатулкой с рукоделием, смятым небрежно и забытым на столе платком — со всем, что хранило беспорядочность будничного существования.20
Конечно, совсем нетрудно подметить в каждом из этих портретов некоторый эмпиризм, слабую выявленность характера, не выступающего вперед, не очерченного так выпукло, как это было в работах блестящих предшественников и современников Федотова, а словно слитого со средой и воспринимаемого как часть этой среды. Но дело тут не просто.
Сорок лет спустя совсем еще молодой Валентин Серов точно так же будет писать загорелую девочку Верушу Мамонтову, слегка скучающую за не идущим ее возрасту и живому характеру занятием, и появится картина «Девочка с персиками», которую портретом не называют: портрет не портрет, жанр не жанр, а что-то совсем иное, осколок живой и цельной жизни, остановленной навсегда в ее течении.
Неужели Федотов замахнулся на такое? Нет, не замахнулся и не мог еще замахнуться, но действительно предвосхитил будущее. Дар, все более сознающий свою силу, и влечение к правде, все более укрепляющееся в нем, неудержимо толкали его вперед и подводили подчас к тому, что сам он не в силах был ни понять, ни осуществить в полную меру, к тому, что не только для него, но и для всего искусства было еще преждевременно.
Непретенциозность, даже явная скромность поставленных перед собою задач бывает иной раз способна освободить художника от многих предрассудков способа выражения, которым он будет безропотно повиноваться в работе «серьезной», имеющей подлинно «высокую цель». Как спокойно и легко пройдет человек по полу своей комнаты и как связан и неловок станет он, появившись на сцене перед зрителями! А постарайся он ступать легко и непринужденно — окажется вовсе невыносим: полезут фальшь и наигрыш. Свежестью, чистотой и раскованностью живописи некоторых «портретиков» Федотов обогнал себя, свои первые картины, исполненные год, два и три спустя, а всех своих современников — и подавно. И обогнал совершенно непроизвольно, о том вовсе не думая. Для него это снова была учеба, и снова вопреки академическому канону: не от чужого опыта, заученного, затверженного, освоенного, — к жизни, а от жизни — к собственному опыту, к подлинной живописной свободе.
Воспринимая все видимое в его ощутимой цельности, он добивался той же цельности, но уже живописной, на своем холсте. Он понял: эта-то цельность и составляет высшую цель и тщету живописного мастерства, в ней-то и заключается главная трудность.
Как добиться того, чтобы изображенный человек существовал в плоскости холста так же естественно, как в реальном пространстве, не выскакивая из него и не теряясь в нем, чтобы, писанный на фоне стены, он отделялся от этой стены и расстояние между ними было ощутимо; чтобы при этом он ни в коем случае не казался написанным отдельно, вырезанным и приложенным к стене, а вместе со стеной, с креслом, окном и мало ли еще чем образовывал живописное целое.
Как добиться того, чтобы многоцветный мир, старательно, точь-в-точь перенесенный на холст, не распадался на яркие куски, мешающие друг другу и не желающие соединяться вместе, — соединяются же они в реальности, и видимый мир не разваливается на части!
Можно было, конечно, прибегнуть к уловкам. Скажем, все цвета слегка ослаблять и пригашать, подгоняя их к общему тону — золотистому, серебристому, рыжеватому, холодному в зеленцу или холодному в голубизну, — так поступали многие и до Федотова, и при нем, и после, и в том не было ничего зазорного: само собою разумелось, что природа нуждается в исправлении. Можно было поступить деликатнее — не ослаблять силу каждого цвета, а искусно подбирать самые эти цвета, согласовывая их друг с другом в натуре или переменяя их прямо на холсте: к лицу такого тона с такими волосами — такое платье, а к нему такой платок, а к ним такую драпировку сбоку, да еще стену соответствующего цвета.
Однако ему хотелось иного. Он слишком дорожил пленительной многоцветностью мира, чтобы гасить ее или подчинять своему произволу. С первых своих живописных работ, по крайней мере с тех, которые дошли до нас, он тянулся к цвету — к его красоте, гармонии, звучности. Заставить засиять самые скудные цвета натуры, увидеть в них то богатство, которое не видит простой глаз, суметь объединить несоединимое, восстающее друг против друга, — вот чего он хотел, в чем обнаруживал хватку природного колориста. Но тут и начинались те сложности, избежать которых не поможет ни один профессор Академии художеств, ни один учебник: надо было искать легкие колебания тона, которые сохраняют ощущение точно переданного цвета и вместе с тем дают ему возможность быть созвучным соседнему; открывать те скрытые переклички цветов, которые позволяют их соединять; видеть всякий цвет не отдельно от других, а только вместе с ними, в единстве, и этому единству, всему сразу, подбирать соответствие на холсте.