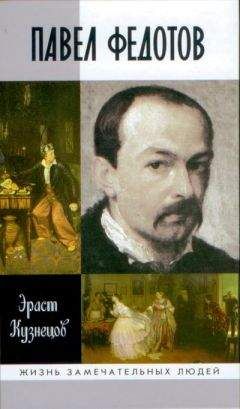Беспорядок, царящий в комнате, фантастичен — самый разнузданный разгул не смог бы произвести его: все разбросано, переломано, перевернуто. Мало того что курительная трубка разбита — так и у гитары оборваны струны, и стул изувечен, и хвосты селедочные валяются на полу рядом с бутылками, с черепками от раздавленной тарелки, с раскрытой книжкой (имя автора, Фаддея Булгарина, старательно выписанное на первой странице, — еще один упрек хозяину). И всё, по чему глаз сравнительно бестрепетно скользил в сепии, всё, что там было очерчено бегло, эскизно, здесь обрело материальность, насыщенность и напористость и потому сделалось ненатурально чрезмерным.
Уходя от карикатуры, Федотов решительно переменил и самих своих героев. Вместо прежних явились люди самые обычные, каких нетрудно повстречать на улице. Более того, если в сепии оба вызывали сходное насмешливое отношение, то здесь их характеры решительно разошлись, а значит, и отношение к ним тоже стало разным.
Кухарке Федотов отдал известную долю своей симпатии, а отчасти даже и своего авторского резонерства. Неуклюжую особу с дурацкой ухмылкой на невзрачной физиономии сменила недурная собою, с приятно округлым простонародным лицом (кстати сказать, слегка сродни деревенским героиням Венецианова) опрятная женщина, всем своим видом являющая откровенную этическую антитезу расхристанному хозяину и его поведению. Та кухарка, погруженная в нечистую и безалаберную жизнь чиновника, была ему ровня; эта смотрит на него с позиции стороннего и незапятнанного наблюдателя. (Сказать по правде, Федотов несколько запутался в собственных намерениях, не свел концы с концами, и о его желании изобличить героя в нравственной распущенности, а проще — в сожительстве с кухаркой, можно судить только из авторского комментария: «Где завелась дурная связь…»)
Столь же решительно обошелся Федотов и с главным героем. В сепии тот, наделенный некоторой, пусть и дурного тона, обаятельностью, веселый и добродушный, дурачился как мог. В картине же он решительно утратил то, что позволяет отнестись к нему сколько-нибудь приязненно. «Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок…» — кажется, что эти слова Герцена писаны прямо про него. Он налился чванством и гневом, ощетинился. Амбициозность хама, желающего поставить кухарку на место, так и прет из него, обезображивая, право же, совсем недурные черты его лица.
В своей первой картине — многоречивой и не вполне внятной, по-прежнему проникнутой совершенно чуждым Федотову духом обличительства — он, не то чтобы нечаянно, но скорее всего неосознанно коснулся сокровенного — больного места, и коснулся так неожиданно, что даже не был правильно понят.
Кто в самом деле изображенный им разнузданный хам? Это вовсе не тот бездушный чиновник-карьерист, которого захотели увидеть зрители, в том числе и такой искушенный зритель, как Владимир Стасов, написавший по прошествии значительного времени, то есть вполне утвердившись в первоначальном восприятии: «…перед вами понаторелая, одеревенелая натура, продажный взяточник, бездушный раб своего начальника, ни о чем уже не мыслящий, кроме того, что даст ему денег и крестик в петлицу. Он свиреп и безжалостен, он утопит кого и что захочет, и ни одна складочка на его лице из риноцерсовой (то есть носорожьей. — Э. К.) шкуры не дрогнет. Злость, чванство, бездушие, боготворение ордена, как наивысшего и безапелляционного аргумента, вконец опошлившаяся жизнь».
Написано, как всегда у Стасова, сильно, но о совсем другом человеке. Герой Федотова — мелкая сошка. На это настойчиво упирал сам художник, называвший его «бедным чиновником» и даже «тружеником» «при малом содержании», испытывающим «постоянно скудность и лишения». Это слишком откровенно явствует из самой картины — из разномастной мебелишки, преимущественно «белого дерева», из дощатого пола, драного халата и беспощадно протертых сапог. Понятно, что комната у него всего одна — и спальня, и кабинет, и столовая; понятно, что кухарка не его собственная, а хозяйская. Ну он не из последних, не Башмачкин или Поприщин, не ветошка какая-нибудь — вот и орденок отхватил, и разорился на пирушку, но все-таки он беден и жалок. Это маленький человек, всей амбиции которого хватает лишь на то, чтобы покуражиться перед кухаркой.
Ошибка Стасова в оценке федотовского горе-героя была не его личная и в своем роде поучительная. Бедность, ничтожность чиновника, конечно, видели, но не воспринимали, пропускали: она не укладывалась в привычный стереотип.
С легкой руки Гоголя чиновник стал центральной фигурой русской литературы 1830-1850-х годов, а более всего — 1840-х. Степан Шевырев недаром заметил, что чиновники «доставляют литературе почти единственный материал для водевилей, комедий, повестей, сатирических сцен и проч. Вся она почти исключительно на них выезжает». Чиновнику сострадали. Да, подчас над ним и потешались, но нота сочувствия маленькому человеку, терзаемому сильными мира сего, оставалась неизменной, как и привычная антитеза гонимого чиновника и гонителя-начальника, и понадобился Достоевский, чтобы впервые разглядеть в маленьком человеке нечто не вполне симпатичное — даже в кротчайшем Макаре Девушкине, явившемся к русскому читателю как раз в том же 1846 году, когда Федотов сидел над своей картиной.
Тогда еще только начинали со все возрастающей тревожностью вглядываться в маленького человека, слой за слоем открывая в нем затаенную и поистине всепоглощающую жажду самоутверждения. Мы, люди начавшегося XXI века, хорошо знаем, что маленький человек, как бы ни проникаться сочувствием к нему и его горестям, способен порою на такой звериный оскал, рядом с которым заносчивость счастливого обладателя Станислава 3-й степени покажется капризом дитяти. Федотов почувствовал эту жажду инстинктом большого художника и выразил, скорее всего не задумываясь над тем, что вышло из-под его руки, не выводя закономерности. Героя своего он подсмотрел в постыдную минуту и сделал все, чтобы постыдность оказалась на виду: маленький человек нашел себе кого-то еще меньшего, над кем можно и вознестись, раб отыскал себе раба, попираемый возжаждал попрать.
Что ж, Федотов сам был маленький человек, сам терпеливо поднимался и медленно возвышался, и каждая веха пройденного пути запечатлевалась прочно в его сердце: вот принят в кадетский корпус, вот «первая роль» на выпускном акте (отрада детская, но он ее так крепко запомнил, что поведал о ней в автобиографии, пусть и слегка иронически), вот первый чин, вот следующий, вот бриллиантовый перстень от великого князя Михаила Павловича… Даже в сумасшедшем доме, находясь фактически по ту сторону жизни, он механическим движением карандаша лихорадочно чертил на попавшемся под руку лоскутке бумаги ордена — кресты, звезды, еще кресты: стыдное, потаенное вырывалось наружу, В картине «Свежий кавалер» он открещивался не только от своего героя, но и немного от себя самого — насмешкой, брезгливым отчуждением.