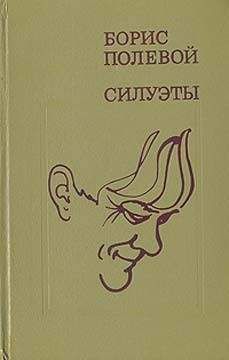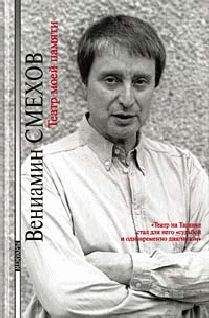А секундная стрелка, казалось, бежала быстрее, чем всегда, и какой-то самолет уже клал в небе пологие круги. Человек-легенда мог быть в этом самолете. И тут я заметил быстро несущийся, сверкающий лаком ЗИМ. А черт, была не была. Я выскочил наперерез машине, угрожающе поднимая свой букет. Свирепо пискнув тормозами, тяжелая машина остановилась в нескольких шагах. За стеклом я разглядел знакомое лицо известного нашего полководца. Выражение этого лица, скажем прямо, не сулило ничего хорошего.
— Вы с ума сошли… Прочь с дороги.
— Назым Хикмет, Назым Хикмет, — бормотал я как пароль. И это имя разгладило свирепые морщины на круглом лице маршала.
Он даже сам открыл дверцу.
— Имею в запасе полчаса. За полчаса встретим? Поехали, а то опоздаем.
Мы опоздали. Когда тяжелый наш лимузин въехал на площадь аэровокзала, толпа встречавших уже рассаживалась по машинам. Издали различил знакомые лица: Тихонов… Симонов… Михаил Котов. А самого Назыма Хикмета увидел в целом ворохе цветов, который он обеими руками прижимал к себе. Но поприветствовать его, познакомиться не было уже времени, ибо в следующее мгновение кортеж машин проследовал мимо.
Но помню, отлично помню, как поразил он меня при этой первой мимолетной встрече. Вместо хилого, зеленолицего дистрофика, каким полагалось, по моему мнению, быть человеку, приговоренному к двадцати восьми годам заключения, только что вышедшему на волю, передо мной мелькнул крепкий, загорелый мужчина в светлом костюме, в рубашке с расстегнутым воротом, с задорными рыжеватыми усиками и пышной шапкой палевых волос.
На следующий день мы познакомились, потом подружились. Впрочем, слово «подружились» в данном случае не носит индивидуального характера. Обладающий огромным бесценным даром дружелюбия, этот турок стал другом всех своих советских коллег, всех, с кем он встречался по своим литературным, театральным, общественным делам, и, вспоминая его сейчас, я отчетливо слышу его задорный голос, где в обращении часто путаются «ты» и «вы», где то и дело мелькает слово «брат», а буква «и» звучит твердо, почти как «ы». Это последнее дало повод Николаю Тихонову потом, когда Хикмет обжился и даже обзавелся автомашиной, написать шутливое четверостишье:
Хыкмет Назым
Имеет ЗЫМ
И потому
Неотразым.
Он любил людей, любил хорошую компанию. Любил угостить знакомых, причем сам приготовлял мудреные и острые турецкие блюда, перед чем торжественно облачался в женский фартук, который у него был в чемодане даже во время поездок. Вообще он был на редкость хозяйственный человек, наш Назым. В поездках у него всегда можно было одолжить иголку с ниткой подходящего цвета, сапожную щетку. А однажды, во время конгресса в Хельсинки, мы видели такую сцену. У нашего делегата — архиепископа Николая Крутицкого и Коломенского случилась беда — его парадное одеяние было облито во время ужина жирным соусом. Завтра с утра ему нужно было выступать. Священнослужитель приуныл.
— Пойдем, брат, — бодро сказал ему Назым и, взяв за руку, увел его в свой номер. Здесь, засучив рукава и ловко действуя большими, поросшими рыжим волосом руками, он не без блеска вывел роковое пятно с помощью какой-то патентованной немецкой пасты, оказавшейся у него в запасе.
И мы всегда поражались: откуда у него, внука турецкого паши, потомка многих поколений весьма родовитых турецких аристократов, эта уютная мужицкая хозяйственность, эта любовь к простой народной пище, это стремление оказаться полезным даже едва знакомому человеку.
А каким чувством юмора он обладал, как заразительно умел смеяться! Помню, в дни одного из конгрессов Сторонников мира в Стокгольме японские друзья показали нам страшный фильм. Документальный фильм о трагедии Хиросимы, которая, как оказалось, была снята кинооператорами, вскоре умершими от лучевой болезни. Там было все: и американский самолет, летящий над городом, и черный гриб, взметнувшийся в небо, и тысячи обуглившихся трупов, и, наконец, на граните моста тень человека, который сидел ловя рыбу и совершенно испарился при взрыве. Все мы были подавлены. Решили развеяться, побродить по ночному Стокгольму. Шли неторопливо, останавливаясь у магазинных витрин, вероятно, инстинктивно оттягивая момент, когда предстояло остаться в пустом гостиничном номере один на один со страшными видениями, только что прошедшими перед нами на экране. Задержались у лавки древностей. Посреди витрины стояла деревянная скульптура Георгия Победоносца, поражавшего копьем поверженного змия. Скульптура была явно старая, привезенная, вероятно, из какой-нибудь сельской церкви, и было в ней что-то наивное и привлекательное. И тут Дмитрий Шостакович вдруг улыбнулся.
— Вы чему, Дмитрий Дмитриевич?
— Вспомнил древнерусский стих об этом вот воинственном господине, — и продекламировал:
…Держит в руце копие,
Тычет змия в жопие…
И тут вдруг на всю улицу раздался смех, веселый, сочный смех Назыма Хикмета. Он несколько раз заставил композитора повторить эти чрезвычайно понравившиеся ему слова древнерусского языка.
— Чудесно, брат, чудесно!.. Совсем как сама эта древняя статуэтка.
Он любил слушать свои стихи в переводе на любой из языков. Любил смотреть свои пьесы. Мы с женой сидели с ним рядом на премьере «Чудака». С детской непосредственностью он переживал все происходящее на сцене, морщился, когда тот или иной актер фальшиво подавал реплику. А в последнем трагическом действии лицо автора было омыто слезами, которые он и не прятал.
— Это же я, — пояснил он. А потом с очень милой и совсем ненавязчивой непосредственностью стал выспрашивать: — Ну что? Ну как? Неплохо? Правда, неплохо?
Смотрели пьесу «Всеми покинутый». Он тоже волновался, комкал носовой платок, вздыхал и Опять в финальных сценах не скрыл слез.
— Это тоже я, брат.
Помнится, тогда жене моей пришла в голову мысль спросить, не он ли является героем одного из его самых сильных лирических стихотворений.
— А гигант с голубыми глазами — это тоже вы?
Он вдруг по-девичьи покраснел, опустил свои действительно очень голубые глаза, сказал:
— Ну зачем вот так прямо спрашивать?
Я люблю его стихи, которые, однако, как мне кажется, лучше не читать, а слушать. Слушать даже в плохом исполнении. В них сплелись два начала: классической турецкой и народной поэзии. Чудесный сплав этих двух компонентов и дал третье, — оригинальное, неповторимое, только хикметовское.
В нашей советской поэзии он больше всех любил Маяковского, с которым был знаком и знакомством этим гордился.