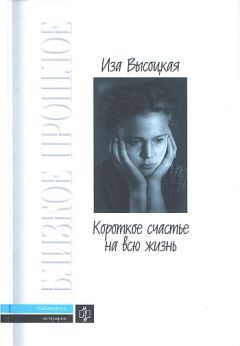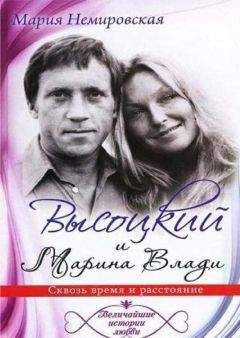Мое тело тосковало по танцу. Всюду музыка и всюду танец. Пионерлагерь. Село Кадницы. 1948 год.
Иногда по ночам, когда не спалось, и сессия далеко, и в комнате тусклый мягкий полусон, девчонки подолгу шептались, делились тайнами.
В одну такую исповедальную ночь я рассказала, что мечтаю о ребенке, и это всем страшно понравилось. Решили рожать, девочку или мальчика, какая разница. Все будет замечательно, потому что все будут помогать растить и воспитывать. То, что в Горьком был Юра и мы с ним должны пожениться, не то что забылось, а отодвинулось далеко-далеко…
Ребенок нужен был немедленно, и я поехала к однокурснику Коле Завитаеву, мальчику со взрослым лицом, иронической улыбкой и недетским опытом во взгляде. На лекциях он садился рядом, и близость его тревожила меня. Я бывала у него дома. Москвичи часто приглашали ребят из общежития. На сессиях все, как правило, разбивались на группки и готовились у кого-нибудь дома, где чаще всего и подкармливали. Колина мама с темными обжигающими глазами, неистово любившая сына, кормила меня эклерами и все куда-то спешила. Отец появлялся редко, всегда был хмур и отделен, а вот бабушка — просто очарование. В ней текла французская кровь, и она никак не давала ей угомониться. Если бы Пиковая дама могла щебетать, сочинять вальсы и упоительно играть их на стареньком фортепьяно, если бы Пиковая дама любила делать веселые сюрпризы и обожала детей, она была бы очень похожа на Колину бабушку, тщательно завитую, в буклях, с длинными нарисованными жирным карандашом бровями и орлиным носом. Еще она пекла крохотные торты. На Новый год мне был подарен тортик с розетку, совсем настоящий, с рогом изобилия, с розочками с горошину из крема. К торту прилагалась записка: «1 000 000 на мелкие расходы».
Я приехала вечером и решительно позвонила. Дверь открыл Коля, и я с порога стала уверять его, что он мне совершенно не нужен и может ни о чем не беспокоиться, я никогда-никогда не попрошу у него помощи — мне нужен только ребенок. Мгновение испуганной тишины — и я получаю первую в жизни пощечину. Столбенею, давлюсь самым страшным ругательством: «Фашист!» — и бросаюсь вниз по лестнице, на улицу, под машину, под троллейбус, куда угодно, куда-нибудь. Коля бежит за мной, за нами летят гудки и проклятия водителей. Наконец мы в сугробе. Я отчаянно вырываюсь — свисток милиционера и приглашение пройти в участок. Начался роман.
Моя прекрасная бабушка — Клавдия Степановна Герасимова. Она так верила в меня…
Колина бабушка получила крохотную комнатку в полуподвале на улице Горького, холодную, как военное детство. Она почти не жила там, только заботливо пополняла запасы кофе, варенья, чего-нибудь вкусненького. Мы укрывались там. Таскали из кухни раскаленные кирпичи для обогрева и пили обжигающий кофе. Иногда сидели в уютном кафе-мороженом, запивая разноцветные шарики прозрачно-зеленым, как изумруд, ликером. Однажды были в ресторане «Москва», а потом на его широких ступенях — никто не помнит, по какому поводу — завязалась многолюдная драка, и мой жилет-разлетайка в руках Коли флагом реял то в одном конце дерущейся толпы, то в другом. Милиция приехала мгновенно. Всех быстро погрузили в крытые грузовики. Я умолила прихватить и меня. Ночь перед экзаменом по русской литературе мы провели в «полтиннике». Перезнакомились и даже подружились — все оказались либо из театрального, либо из юридического. На рассвете нас выпустили; посидели в скверике, умылись газировкой и славно сдали экзамены. Ездили в Загорск, в старую деревянную гостиницу с огромным фикусом в кадке и скрипучей лестницей — там можно было получить номер просто за деньги, без штампа в паспорте. Бродили по святым местам и предавались блуду, и было страшно, таинственно, запретно. Еще была тяжелая темная книга с репродукциями Рубенса, Рембрандта — всё истома, всё нега и вожделение. Смотреть вдвоем неловко, а не смотреть невозможно. Почему — не знаю, не помню — мы трагически ссорились и трагически мирились, и понимала я, что творю ужасное и кругом виновата.
К концу второго курса Коля попал в больницу с сердечным приступом, а подлечившись, был отправлен в санаторий в Ялту. Я получала мрачные письма с требованием срочно приехать, иначе… дальше шли угрозы, леденящие душу. Вслед за письмами примчались телеграммы. Но как уехать — надвигалась сессия (самая важная, потому что два первых курса были испытательными и только на третьем курсе студент мог чувствовать себя окончательно полноправным), и денег не было совсем.
Не умеющая хитрить и просить, я вдруг проявила чудеса наглости и изворотливости. Кто-то сказал, что у Виталия Яковлевича Виленкина, который вел историю МХАТа, сестра — врач в глазном институте. Кинулась к нему. Он с великой готовностью пишет записку, по которой немедленно принимает меня милая, добрая его сестра, обнаруживает у меня солнечный конъюнктивит и дает справку, разрешающую перенос экзаменов. Милейший и добрейший Вениамин Захарович Радомысленский напутствует меня ехать в Горький к маме, отдохнуть, подлечиться и вернуться с новыми силами.
Колина мама везет меня на Курский вокзал, достает через знакомых билет и сажает в поезд. Еду спасать — срок справки семь дней.
Никогда не была я на юге, не видела моря и всего разом цветущего и дурманящего изобилия. Белая акация, сиреневая глициния, белее белого магнолии — ликующая роскошь природы. Могучее дыхание моря, от которого ни глаз, ни ног не оторвать. Бархатные звездные ночи. Стрекот цикад.
Мой приезд не принес мира. Ночами не раз мчались мы с горы наперегонки топиться, но как-то не успевали добежать — или падал Коля, вспоминая про свое сердце, или я, вспоминая о его сердце.
Дни таяли. Возвращаться было не на что, обещанные Колиной мамой деньги не приходили. Тогда я отправила в студию телеграмму с просьбой продлить мой отпуск. Через день получили ответ: «Немедленно возвращайтесь, в противном случае — отчисление». Продали мое платье чайной розы со школьного бала, чудом купили билет, и — так и не выяснив отношений — позорно возвращаюсь я на Трифоновку. Следом вернулся Коля. Нас вызвали в кабинет Вениамина Захаровича, где собрались руководители курса, и задали всего один вопрос: «Просил ли меня Коля приехать к нему?» Он молчал. Я закоченела и окаменела. Не дождавшись ответа, мое преступление было классифицировано как «любовный вояж», и мне было предложено за оставшуюся неделю сессии сдать все экзамены и, если сдам без единой тройки, мне позволят остаться. Роман кончился.
Первый экзамен — история МХАТа. Снедаемая стыдом, перешагнула я порог аудитории и, не поднимая глаз, взяла билет. Повисла жуткая тишина, и белый свет померк. С трудом подняла я голову и встретила взгляд Виталия Яковлевича такой нечеловеческой доброты, что тотчас начала оттаивать и что-то лепетать сквозь слезы. Виталий Яковлевич одобряюще кивал, быстренько поставил мне пятерку и отпустил так ласково и меня, и мои грехи.