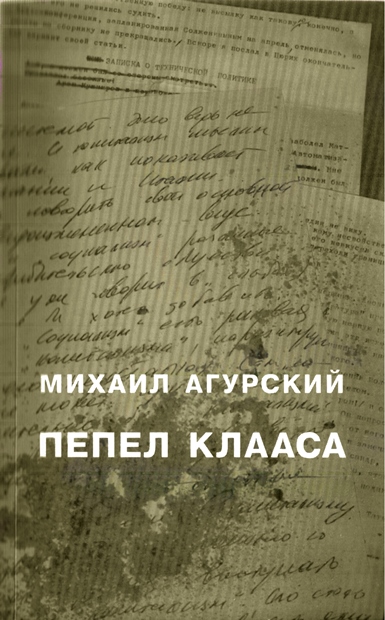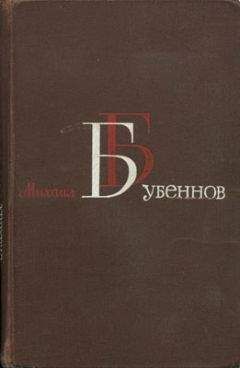Института красной профессуры, предшественником Высшей партийной школы. Он получил хорошую для тех времен двухкомнатную квартиру в доме сотрудников МК в выходившем к Арбату Денежном переулке, ныне улица Веснина, названная так в честь известного советского архитектора. В двух шагах был особняк, который получило израильское посольство в 1948 году. Квартира наша находилась на первом этаже двухэтажного кирпичного купеческого дома в глубине старого двора, вымощенного брусчаткой и усаженного сиренью, яблонями и каштанами.
Это было тяжелое время. В стране был голод. Даже в Москве на улицах валялись умирающие от голода люди с Украины и Поволжья. И хотя отец когда-то уговаривал американцев помочь голодающим Поволжья, на сей раз он ничего не замечал. Наша семья была прикреплена к закрытому распределителю МК «Стрела» на Лубянке, откуда можно было получать, что только вздумается. Мать признавалась, что не могла смотреть в глаза людям, выходя из «Стрелы» с набитыми авоськами.
У отца то и дело вспыхивали конфликты с матерью: привыкшая к бедности, она не хотела жить на широкую ногу, одевалась скромно сама и скромно одевала детей. Отцу это не нравилось.
Сынок мой,
Твой мир бесконечно широк.
Ты сын равноправный
большого народа.
Тебе и твоим сыновьям,
Мой сынок,
Навек уготованы
Мир и свобода.
Изи Харик
Мое появление на свет в апреле 1933 года было непредвиденным. Отец, недовольный тем, что у него появляются только дочери, не хотел более детей и, когда мать забеременела, настоял на аборте. Но мать простудилась. У нее возникла стафилококковая инфекция, при которой операции противопоказаны. Жизнь моя была спасена. Отец был недоволен: «Одной писухой больше», но когда узнал, что у него появился сын, обрадовался.
Появился я на свет в родильном доме имени Грауэрмана, который теперь, после сноса Арбата, оказался на широком проспекте Калинина, а тогда был на тихой и прелестной Большой Молчановке. В этом родильном доме увидело свет множество жителей центра Москвы, которые при соответствующих условиях могли бы образовать влиятельный клуб.
Дедушка Хаим-Мендель, переживший мое рождение лишь на год, не преминул сравнить мое рождение со спасением Моисея, предсказав мне славное будущее. Было исключено, чтобы отец дал согласие на обрезание, и я не сомневался, что не был обрезан. Я оказался не прав, но не хочу нарушать порядок повествования и рассказывать о том, что я узнал только в 1976 году, хотя и это не открыло мне всю тайну моего младенчества.
Отец еще раз проявил свой последовательный интернационализм, придумав мне уникальное имя — МЭЛИБ. Оно было задумано как сокращение: Маркс-Энгельс-Либкнехт. Я почти уверен, что он составил это имя, глядя на обелиск в Александровском саду (там, где по его рассказу, любил покуривать Сталин), посвященный борцам за революцию всех времен и народов. Именно там список этих борцов начинается с этих трех имен. Все же звучание имени — МЭЛИБ — получилось еврейским, что многих обманывало впоследствии.
Имя это в семье не привилось, ибо было труднопроизносимым. Среди наших книг были азербайджанские сказки издания «Academia». Героями их были неизменные Мелик-Мамед и Мелик-Ахмед. Сестры стали звать меня Меликом, а за ними и мать. Отец до этого не опускался и постоянно звал меня запатентованным именем.
Азербайджанские сказки были лишь одной книгой из большой библиотеки, приобретенной отцом по случаю моего рождения. Следуя еврейской традиции пренебрежения к умственным способностям женщин, отец не придавал рождению сестер серьезного значения. С моим же рождением он стал быстро собирать книги. Их у него было много и до этого, но главным образом по истории партии. У него был также собран ценнейший архив еврейской печати времен Гражданской войны и двадцатых годов, который был официально зарегистрирован. Кабинет его был заставлен подшивками переплетенных газет. Мне же он решил купить то, чего сам прочесть не успел и с чем у него было связано представление о культуре. Выбор этот был вовсе не плох, и это сыграло огромную роль в моей жизни. Не оказав на меня личного интеллектуального влияния, отец сделал это выбором библиотеки, часть которой привезена мною в Израиль.
Он скупил почти всю снобистскую «Academia». Это ввело в наш дом Гейне, Дидро, Шекспира, Шиллера, Плавта, Гете, Сервантеса, Теккерея, Свифта, Беранже, Мольера и многое, многое другое. Отец скупил много дореволюционной литературы, в особенности приложения к «Ниве», среди которых были Гоголь, Андреев, Гамсун, Ибсен, Гончаров. Были у нас Вальтер Скотт, Байрон, Рабле, Мопассан, Гюго, Пушкин, Горький, Толстой, Тургенев, Лермонтов, Чехов, Белинский, Державин, Вересаев, Надсон. Советской же литературы — что любопытно — было мало, за исключением Маяковского, Шолохова и Фурманова.
Анархистские пережитки отца сказались в том, что в купленной им библиотеке были книги Кропоткина. Имелся также большой набор сказок, помимо роковых азербайджанских. Были книги по искусству, в том числе прекрасно изданная дореволюционная «История русского искусства» Новицкого.
Особенное впечатление на меня производила «Детская энциклопедия» дореволюционного издания со множеством иллюстраций. На обложке каждого тома была виньетка с мальчиком и девочкой, рассматривающими в саду книгу. В энциклопедии было множество историй о всяких диковинах. Из нее еще в магазине были выдраны как антипедагогические портреты царей всех времен и народов.
Я незаметно научился читать уже в возрасте трех-четырех лет и не выпускал из рук эту энциклопедию. Другими моими любимыми книгами были «Золотой ключик» Алексея Толстого, «Русские былины», которые я знал назубок, а также «Волшебник изумрудного города», нагло украденный неким Волковым у Фрэнка Баума.
В нашей московской квартире висела репродукция с картины Верещагина с изображением двух азиатских воинов, охраняющих вход в крепость. Был и герасимовский портрет Сталина, протягивающего руку с трибуны.
Невзирая на протесты матери, отец купил пианино, рассчитывая учить меня музыке.
В 1934 году отца снова переводят в Минск. Он становится директором Института истории партии и Института еврейской пролетарской культуры, а позже становится и директором Института истории. Трудно сказать, воспринимался ли им перевод в Минск как понижение. В то время началось удаление из центра бывшей партийной гвардии, и не один отец покинул Москву в это время. Но он любил Белоруссию, любил Минск, любил еврейскую работу, от которой стал было отходить в Москве. Получив центральные посты в Белоруссии, он мог воспринимать перевод в Минск и как повышение. С Минском связаны мои первые зрительные воспоминания. Мы жили в Доме правительства в трех больших комнатах в квартире, которую отец делил с Саприцким — редактором белорусского юмористического журнала «Вожык». Наш дом находился