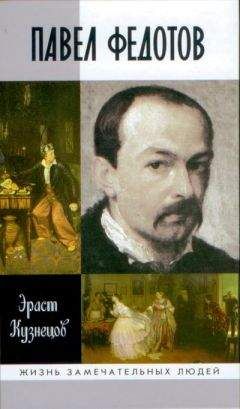Никогда еще он не был и никогда больше не будет так беспощадно язвителен, как здесь. Жалкий чиновник стоит в позе античного героя, жестом оратора поднося правую руку к груди (к тому месту, где висит злополучный орден), а левой, упертой в бок, ловко подхватывая складки просторного халата, так, словно это не халат, а тога. Нечто классическое, грекоримское есть в самой его позе — с опорою тела на одну ногу, в положении головы, медленно повернутой к нам в профиль и гордо откинутой назад, в его голых ступнях, высовывающихся из-под халата, и даже клочья папильоток торчат из его волос наподобие лаврового венка.
Надо думать, что именно таким победительным, величественным и гордым до надменности ощущал себя чиновник. Но античный герой, вознесшийся среди ломаных стульев, пустых бутылок и черепков, мог быть только смешон, и смешон унизительно — все убожество его амбиций вылезало наружу.
Конечно, кисть живописца сплошь и рядом оказывается мудрее его мысли или по крайней мере обгоняет ее, но так ли уж непроизвольно возникла у Федотова пародия на академическую картину? Ведь склонность вышучивать почтенный арсенал классического искусства обнаруживал он и раньше. И в давней записи, сделанной в карауле у подножия Нарвских ворот: «…едут юные дети определяться, кто в корпус, в будущие Ахиллесы или повесы». И в иронических, даже несколько охальных, карикатурах на мифологические темы, вроде «Сатиры и нимфы». И в рисунке «Бельведерский торс», где он, прилежный посетитель рисовальных классов, посягнул на святое — изобразил учеников Академии художеств, срисовывающих и ваяющих штоф водки, поставленный перед ними вместо античного слепка.
Тот комический эффект, который сам собою возникал в некоторых его сепиях, Федотов употребил на сей раз достаточно обдуманно, в целях иронического осмеяния. Ведь в сепии чиновник стоял в дурашливой ухарской позе, ничем не напоминая античного оратора. Развенчивая своего героя, Федотов одновременно развенчивал и академическое искусство с его закостенелыми ужимками и ухватками. В его первой картине русская живопись, смеясь, расставалась с академизмом.21
«Свежий кавалер» тяжело достался Федотову, но столько нового успел он узнать за девять месяцев, столькому научиться, что не терпелось скорее взяться за следующую картину.
Все-таки он позволил себе сначала исполнить еще одну сепию, благо идея продолжения и расширения начатой серии еще теплилась в нем. Сепия была задумана давно, но все откладывалась за недостатком времени. «Бедной девушке краса — смертная коса» (или «Мышеловка»): разодетая сводня, разложив на столе деньги, серьги, перстни и разбросав на скамейке роскошный наряд, убеждает бедную, но честную девицу, зарабатывающую шитьем, пойти на содержание к офицеру.
Сепия не совсем удалась. Как и в прежних, в ней было много демонстративного, разъяснительного, нарочитого. И престарелая мать, скорчившаяся от кашля на своей убогой постели. И сводня, показывающая на богатое платье актерским жестом (указательный палец вытянут вперед, большой откинут в сторону, а все прочие плотно сжаты). И фигуры дворника и бесчестного соблазнителя (офицер спрашивает адрес, дворник показывает рукой и получает за это вознаграждение), которые видны в проеме двери, словно специально для того отворенной. И, наконец, сама мышеловка, от которой пошло второе название сепии — она стоит на полу, к ней крадется простодушная мышь (через несколько лет Михаил Погодин, пленившись более чем нехитрой аллегорией, воскликнет патетически: «Крепись, крепись, бедная девушка. Взгляни на эту западню, куда лакомый запах привлекает резвую мышку. Это твоя судьба»).
Словом, наивно задуманная, сепия наивно была и осуществлена. Все же было здесь и нечто новое. Как будто мелочь: поведение героини. Она не закатывает глаза в отчаянии, не хватается за голову, не отталкивает сводню жестом гордой неприступности — она вообще ничего не делает, не изображает, а молча сидит, тупо глядя перед собою и ковыряя стол ножницами, случайно оказавшимися под рукой, словно ей и слушать не хочется, и оттолкнуть нет сил. Это внутренняя жизнь, сама собою вышедшая наружу и оказавшаяся красноречивой в своей непроизвольности.
Такая мелочь была подлинным прозрением художника, она дорого стоила, но и ее не хватало, чтобы перевесить нарочитость остальных деталей и обстоятельств. Федотов попробовал потом, позже, возвратиться к трогательному сюжету и успел сделать два этюда маслом на маленьком холстике — девушка и, отдельно, голова сводни, сильно измененные в сравнении с сепией. Но дальше этюдов дело не пошло, а там и самые сепии канули в прошлое.
Они уже и сейчас не были ему нужны, потому что замысел своей новой картины он позаимствовал у Крылова. Намерение было благородное — почтить память баснописца, скончавшегося три года тому назад. Крылова он ставил чрезвычайно высоко, гораздо выше и Пушкина, и Гоголя (натяжка, впрочем, понятная и простительная); в собственных баснях подражал Крылову как мог; наконец, помнил, что не кто иной, как Крылов, подвигнул его на верный путь в искусстве, стал, так сказать, его крестным отцом.
Он взял известную басню «Разборчивая невеста» о привередливой красавице, которая год за годом отказывала всем претендентам, пока вдруг не спохватилась:
Красавица, пока совсем не отцвела,
За первого, кто к ней присватался, пошла,
И рада, рада уж была,
Что вышла за калеку.
Будем честны: в картине «Разборчивая невеста», картине безусловно мастерской, значительно превосходящей «Свежего кавалера», Федотов не высказался так сильно, отчетливо и захватывающе, как нам бы того хотелось. Смысл ее не выходит за пределы уже поведанного Крыловым. Зато он уверенно восполнял в ней то, чего так не хватало в картине предыдущей.
Там, в сущности, так и не образовалось целостного драматического действия, вместо него было показано противостояние друг другу двух людей, каждый из которых что-то говорит другому, и нужно разгадывать смысл происходящего между ними по многочисленным предметам, разбросанным там и тут, или даже заглянуть для этого в авторскую «программу». Здесь такое действие было выстроено; избран был тот решающий момент, который позволял всё понять — и судьбы людей, объясняющихся друг с другом, и суть самого объяснения, и то, что вслед за этим воспоследует.
Там изображенная художником жизнь не была еще жизнью в точном значении этого слова — скорее условным существованием напоказ, когда люди (да и вещи) живут, не по-взаправдашнему, то есть для себя и друг с другом, а «актерствуют». Здесь от этого не осталось и следа. Персонажи на самом деле проживают столь важную для них ситуацию, всецело отдаваясь своим чувствам. Вещи строго отобраны, и ни одна из них не кажется лишней: и цилиндр с положенными в него перчатками, опрокинутый Женихом, когда он резво бросился к ногам Невесты, и предметы обстановки, вплоть до картин Федора Моллера «Невеста» и Алексея Тыранова «Девушка с тамбурином» — свидетельств вкуса распространенного, но не тонкого.