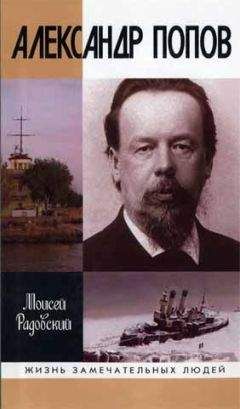«Was lange wahrt wird endlich gut!» («Всё достаётся тому, кто умеет ждать!»)
Поздно вечером 30 августа мы садимся в поезд, на этот раз это последняя часть нашего долгого путешествия. После Бельфора все кинулись к окнам, нам не терпелось увидеть Вогезы и эльзасскую равнину. Через Альткирш поезд проезжает не останавливаясь. Наконец скрип тормозов, поезд постепенно замедляет ход и медленно въезжает на вокзал: это Мюлуз. Большая часть наших товарищей покидает нас здесь. Нетерпение оставшихся нарастает. Ещё целых полчаса! Мы видим хорошо знакомые места, любуемся вершинами так любимых нами вогезских гор. Вот и три замка Эгисхайма, ещё несколько минут потерпеть! Наконец тормоза скрипят, мы расталкиваем друг друга, перед нами появляется знакомый силуэт вокзала, мы в Кольмаре. Двери открываются гораздо раньше, чем поезд останавливается. Мы видим на площади огромную толпу матерей, отцов, братьев, сестёр, жён… Многие из них, к несчастью, будут разочарованы. Мы бросаемся к выходу! Самые нетерпеливые прыгают через забор, наступают на ноги, устраивают давку — каждый хочет первым обнять своих! Крики радости одних смешиваются со встревоженными вопросами других, которые не видят тех, кого так ждали. «Вы не видели того и того? Вы не знаете X или У?» Трудно проложить себе дорогу. Наконец я вижу вдали два знакомых силуэта — это папаша Гассер, мой тесть, в сопровождении Лолотты[72], превратившейся за это время из девочки в девушку. Трогательные объятия! Но как попасть в Сульцерен, в Гюнсбах? Я узнал, что поезд по долине больше не ходит. В эту минуту я вижу ещё одну знакомую фигуру: Поль Маршал приехал специально, чтобы отвезти меня домой. Почти одновременно с ним подходит Пьер Ферч, мой друг-авто-механик из Сульцерена, и также предлагает мне свои услуги. Сторговались на том, что Поль отвезет меня к родителям в Гюнсбах, куда чуть позже подъедет Пьер, чтобы отвезти меня домой.
Трогательный момент встречи с родителями, которые не смогли сдержать слёз радости. Я тоже. В течение многих месяцев после возвращения малейшее волнение вызывало у меня слёзы, особенно когда я слышал «Марсельезу». Может быть, потому, что после пребывания в нацистской Германии и коммунистической России я поклялся себе, что никогда больше не буду жаловаться на Францию, никогда не буду её критиковать, несмотря на все её недостатки.
Хотя нас хорошо и обильно кормили в Валансьене и Шалоне, у меня осталось неутолённое желание насладиться куском мюнстерского сыра! Несмотря на все советы и предостережения военных врачей, я жадно проглотил половину сыра в Гюнсбахе, а остаток постигла та же судьба вечером в Сульцерене.
Что сказать о встрече с моими в Сульцерене? Представьте себе, что вас внезапно разлучили больше чем на два года с тем, кто тебе дороже всего на свете, двадцать месяцев молчания, одиночества, полной неизвестности, без единого знака, что человек жив, и вы поймёте, насколько мы были рады встрече. Я потом узнал от друзей и соседей, что моя жена держалась с исключительной, образцовой храбростью, ни на секунду не сомневаясь в благополучном исходе этого долгого испытания, даже когда слишком бойкие языки распускали слухи о моей смерти в Новограде-Волынском.
Мой малыш Хансала, которому уже исполнилось три с половиной года и которого я покинул, когда ему было полтора, привык во время моего отсутствия каждый день целовать одну из моих фотографий, висевших на буфете на кухне. Когда он увидел взволнованного человека с пожелтевшим лицом, запавшими глазами и бритой головой, он, естественно, не смог сопоставить его с тем, кто был на его драгоценной фотографии. Его папа — тот, кто на фото, а не этот чужой человек, которого он испугался, но которому он тем не менее вежливо предложил стул. Понадобилось несколько долгих месяцев, чтобы между нами установился сердечный контакт, чтобы он принял этого надоедливого чужака, который пришёл и нарушил его близость с мамой. Из-за моего нетерпения и раздражительности это было особенно трудно.
Для меня и моей жены эта встреча была счастьем вновь обретённой любви. Но жить порознь так долго, когда каждый из нас был вынужден думать, принимать решения, действовать, брать на себя ответственность поодиночке, — всё это не могло не оставить следов.
Возвращение французских военнопленных в октябре 1945 года. Париж, Восточный вокзал, перед посадкой на поезд в Эльзас
Надо было опять научиться жить вместе, как молодые супруги. Благодаря жизнерадостному, открытому и покладистому характеру моей жены всё наладилось.
Надо отдельно сказать, что в это время испытаний самый известный эльзасец двадцатого столетия, будущий лауреат Нобелевской премии мира Альберт Швейцер, находясь в джунглях экваториальной Африки, много думал о нас. Вот перевод начала письма[73], которое он мне написал сразу же после войны:
«Дорогой Митчи!
Итак, ты жив! Я с большой тревогой думал все эти годы об эльзасцах твоего поколения и особенно о жителях долины Мюнстера. И теперь (благодаря эльзасским газетам, которые снова стали к нам приходить) я узнал, сколько из них нашли свою смерть далеко от дома, на полях сражений или как узники этих ужасных лагерей. Какие страдания ты должен был перенести в Тамбове! Надо, чтобы ты мне всё рассказал, когда мы наконец снова встретимся».
Шарль Митчи и Альберт Швейцер после концерта мужского хора деревни Гюнсбах, 1952 год
Прошло уже почти полвека с момента нашего возвращения из Тамбова. Ряды бывших узников лагеря сильно поредели, и бреши увеличиваются с каждым днём. Те, кто тогда был молод и с кем сейчас ещё можно связаться, почти все уже старики. За эти сорок восемь лет они смогли более или менее интегрироваться в обычную жизнь, создать семью, они знали радости и печали, у них появились дети, внуки, у кого-то даже правнуки. Большинство из них до сих пор поражаются, что им удалось вернуться из лагеря, где так много их товарищей осталось в общих могилах. С течением времени и с возрастом некоторые воспоминания приняли в их памяти совершенно другую форму из-за того, что факты, хотя и реальные, стали казаться им невероятными, происходившими только в их воображении, как это случилось в моём случае с историей о перевозке больных в Кирсанов. Бывший узник Тамбова стал более снисходительным и здравомыслящим. Он стал отличать нацистских начальников, которые послали нас в Россию, от советских, которые подвергли нас таким же тяжёлым испытаниям, как и своих врагов — немцев. Он отказался от не подлежащего обжалованию приговора в отношении русских, которые могли дать нам только то, что у них было, хотя даже для их собственного народа этого было недостаточно. Я лично утверждаю, что русские никогда не пытались преднамеренно вредить нам, подвергать жестокому обращению и ещё менее — стереть нас с лица земли. И не будем забывать об их решающем вкладе в борьбу против нацистских варваров, оплаченном двадцатью миллионами жизней.