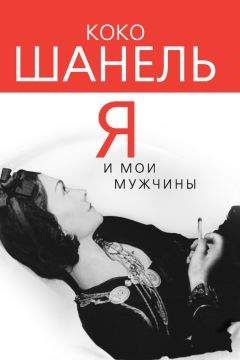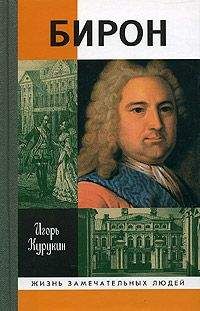«Последнее время они мне всё льстят, и это для того, чтобы я убралась, — бормотала Коко. — Они не понимают, какая это была бы катастрофа. У меня работает четыреста человек. Если я закроюсь, это равносильно закрытию целого автомобильного завода».
Для нее «Рено» и «Ситроэн» оставались теми же ремесленными мастерскими, что и в пору их первых автомобилей.
Я смотрел на нее: она сгорбилась у меня на глазах. Железный занавес старости закрывался на ее лице; от него оставались одни глаза. Случалось, что она меня раздражала. Такое непонимание, безрассудство, такой эгоцентризм; ее ожерелья, цепочки, кольца на каждом худом пальце, вся эта экипировка Шанель; ее монологи, суждения, приговоры, не подлежащие обжалованию. Но в этот день! Совершенно спокойная, внешне безразличная к удару, ей нанесенному, она, придерживая очки на кончике носа, рассматривала работы, произведенные для осады крепости Шанель.
Об этой истории, которая могла бы появиться под крупными заголовками в парижских, да и не только парижских, газетах, не говорили. Трудно ли вообразить, что творилось на душе у Коко? Какие мысли приходили ей в голову?
У нее хотели отнять ее Дом, ее дитя! Единственную вещь, которую я создала сама.
— Это похоже на детективный роман, — бормотала она.
Действительно, она проживала эпизод из романа Пьера Декурселя, тот, в котором Рамон де Монтлор похитил Фанфана и отдал его Лимасу, чтобы этот презренный негодяй превратил маленького ангела-аристократа в такого же подонка, как он сам.
«— Вот ребенок (Дом Шанель), — сказал глухо Рамон.
— Он действительно красавчик, господин. Клянусь честью, похож на вас».
Ей было больно, и я прекрасно ее понимал, потому что сам прошел через такие же испытания. У меня тоже только что отняли ребенка, чтобы сбить его с пути. Газету. Она не принадлежала мне, как Дом Шанель Коко. К тому же она более защищена, чем я. Это не мешало мне страдать вместе с ней, за нее. Выиграв столько сражений, могла ли она проиграть последнее?
Ей оставалось три года жизни, шесть коллекций, чтобы доказать, что она еще — и всегда — права, что она сохранила свой титул чемпиона мира. Ее хотели отправить на покой, дать для нее, ее именем жалкое сражение, чтобы помочь достойно отступить, в то время как она предчувствовала полную победу. Она пожимала плечами и с улыбкой, больше похожей на гримасу, сказала: «Итак, за работу!»
Indomitable[290], говорят англичане, и это, без сомнения, больше подходит к Мадемуазель Шанель, чем французское indomptable[291], потому что в этом прилагательном есть оттенок благородства.
Я уже долгие годы не занимался журналом «Мари-Клер». Трудные для Коко Шанель годы, когда мода, нарушив традиционный ход, вместо того чтобы спуститься из салонов модельеров на улицы, с улиц (и с Карнеби-стрит)[292] поднималась в салоны. Это не мешало мне все чаще видеться с Коко. Она меня завораживала, сам хорошенько не знаю чем. Когда она мне показала ателье, помещенное без ее ведома рядом с ее собственными, рядом с ее Домом, под крышей, носящей в каком-то роде ее имя, мне показалось, что я наконец открыл ее для себя. Значит, она тоже уязвима, она страдала, ей было больно. Короче говоря, она человек, женщина, она, которая появлялась всегда забронированная с ног до головы, чуждая каким бы то ни было эмоциям.
Я не мог поверить, что с ней посмели так поступить. Я считал ее неприступной. Что можно было сделать с ней? Ограничить ее власть, дать ей немного меньше денег?
Они ополчились против ее господства, хотели отнять у нее скипетр и корону. О! Следовало признать, что ее господство было подорвано. Она теряла свое положение и значение. Пресса больше не занималась ею. Повторяю: если в коммерческом плане Шанель сохранила свою прочную ценность, если ее Дом моделей, даже работающий не в полную силу, оставался могучим механизмом для выпуска и продажи духов, то тем не менее Шанель переставала быть событием, как это называют в прессе. Почему журналист, специализирующийся в области моды, будет искать новизну на рю Камбон? Каждые полгода там видели те же безукоризненные костюмы, даже все более и более совершенные, но как это совершенство могло быть отражено на фотографиях или в заголовках статей? Мини-юбки, почти обнаженные манекенщицы — вот что питало специальные номера, что составляло ударный элемент коллекций, что производило шок при демонстрации.
— У меня не покажут колени, — твердила Коко. — Колени — это суставы.
Поднимая худую, почти высохшую руку, она сгибала, разгибала, снова сгибала указательный палец:
— Вы находите, что это следует показывать, — сустав? Колено? Уродливое колено?
Она даже добавляла:
— Старое колено… старое… старое колено.
Она вглядывалась во что-то невидимое, поверх меня. Я чувствовал, что почва уходит у нее из-под ног. Почему? В чем увязала она? Я знал ее меньше, чем теперь, когда наконец понял, в чем она мне тогда призналась.
— Вы думаете, приятно слышать, как все повторяют, что вам уже не двадцать лет?
Она одергивала концы красного шарфа, завязанного на шее. На ее старой шее.
— Я слишком хорошо знаю, что мне не двадцать лет. Я бы довольствовалась сорока годами.
В двух признаниях, в двух фразах она открылась мне до конца: итак, за работу и, увы, мне уже не двадцать лет. Она приобретала бальзаковские измерения.
Сначала сирота, которая стыдилась, отказывалась быть ею. Много ли девочек знают в шесть лет, что станут Коко Шанель и в день смерти имя их появится на первых страницах газет всего мира? Почему Коко не сохранила воспоминания о какой-нибудь товарке по приюту? Стерла из памяти все лица той поры. Свою первую победу она одержала над детством, которое отвергла. Я не сирота! Она сочинила себе дом, хороший дом, отца, уехавшего в Америку, строгих, но благородных теток. Все это было создано не за один час. Всю жизнь она сражалась за то, чтобы утвердить и сохранить свой вымысел. Вымысел, который не так-то легко было выдать за правду. Его надо было переплести с реальностью, оставившей свои следы. Какое она получила образование? Она говорила: «Мне случается спрашивать себя, научилась ли я читать и писать».
Как жалко, что так мало известно о ее детстве. Коко в десять, пятнадцать лет… «У меня был ужасный вкус».
Она говорила, не думая этого. Свой царственный, безупречный вкус она выработала сама, начиная с того, что поднялась над положением бедного ребенка, сиротки в черном переднике.
Вторую победу она одержала в Руаллье. Кем она была? Красивой провинциалкой, привезенной в Париж офицером, которого забавляла. И который содержал ее. Тратя на нее меньше, чем на свою, так сказать, официальную любовницу, знаменитую кокотку Эмильенн д'Алансон.