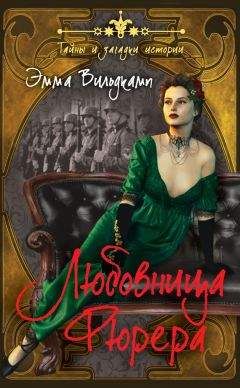Ни одна другая сцена не демонстрирует с такой ясностью волнение и восторг, которые Рифеншталь может выстроить с помощью ритмического монтажа. Эта часть — самая длинная во всей картине, и легко могла бы оказаться самой скучной, однако же удерживает внимание зрителя. По мнению Барзама, «она напрашивается на сопоставление со знаменитой сценой прыжка в воду из «Олимпии», где она переходит ограничивающие рамки времени и пространства и исследует кинематические пространство и форму, побуждающие к бесконечным размышлениям».
Лес партийных штандартов вновь вырастает на церемонии закрытия съезда в переполненном зале Люитпольда, куда Гитлер является под излюбленный «Баденвейлерский марш», чтобы дать свое самое зрелищное и самое оживленное представление за все время съезда. В ход идут все известные нам актерские приемы фюрера: «размахивание руками, битье кулаками, фантастические взгляды и приводящие в восторг напыщенные словеса» (Барзам). Уильям Эверсон высоко оценил, в частности, один малозаметный, длящийся менее секунды эпизод — «Толпа неистовствует в знак одобрения… Даже он, и то немного изумлен этим энтузиазмом. Возникает… некое подобие улыбки, которое говорит больше, чем кадры фильма: «Вот это да! Именно этого-то я от них и хотел!» Из таких моментов состоит истинная правда истории, такие моменты принадлежат к самым ценным в кинодокументалистике».
Содержание мало чем отличается от более ранних проповедей. Речь политика, в которой больше риторики, чем содержания, — хотя в ней содержится хвастливое заявление, что во главе партии теперь находится «лучшая кровь нации». Речь окончена; перед нами образ фюрера совершенно противоположный тому отстраненному, надменному, каким он был ранее представлен в фильме. Теперь перед нами — тот фюрер, которого мы привыкли представлять себе (и ненавидеть) согласно привычному стереотипу. Его цель ясна — чтобы его последователи разъехались по домам, вооруженные новым зарядом фанатизма, повинуясь его несгибаемой воле.
Как только он закончил, вскакивает Гесс с безумными глазами: «Партия — это Гитлер! — вопит он. — И Германия — это Гитлер! Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль!»
В едином, ничем не сдерживаемом порыве взлетают руки, точно на приливной волне, и звучит громогласный ответ: «Зиг хайль!»!
В зале лес воздетых рук. Снова звучит мотив «Хорста Весселя», и вот картина переходит к финальному пассажу — силуэты фигур, марширующих в направлении неба, к облакам. В этой сцене отзываются сильным эхом заключительные кадры фильма Луиса Тренкера «Бунтарь».
* * *
Наиболее характерным элементом фильмов Рифеншталь, заметным уже в первых с ее участием как актрисы и звучащим куда более убедительно в тех, где она выступает как режиссер, следует назвать фантазию. Она предлагает нам мир своими глазами, не увязший в повседневных заботах и обыденной механике. В большинстве своих ролей она предстает существом, не похожим на других простых смертных: если уж не суперженщиной как таковой, то уж, во всяком случае, наделенной небывалым атлетизмом и необъяснимыми способностями вхождения в контакт и с привычным, и с возвышенным миром.
Она видится существом не от мира сего или, если хотите, существом, явившимся из другого мира; и при том что она страстна, чувственна, она вместе с тем почти асексуальна. Она все знает, но — словно бы бессознательно; воплощает невинность, заключенную в вечном отрочестве, не умея — или не желая — объять обыденный, взрослый мир.
Той же фантазийной дезориентации она достигает и в фильмах, в которых выступает как режиссер. Она нисколько не стремится к тому, чтобы реальные образы у нее выходили как реальные. Здания и люди отнюдь не стоят у нее на грешной земле — они парят в воздухе или пикируют вниз, но, в общем, обитают в некоем более высоком плане. Это преображение обязано ее видению, которое сложилось к началу 1930-х годов и о котором уже было широко известно. Напрашивается мысль, что уж ей-то в последнюю очередь можно доверять создание документального фильма — во всяком случае, если рассматривать таковой общепринятым взглядом как фиксацию фактов.
Для непрофессионала документальный фильм — синоним любого фильма, не относящегося к художественным, будь то новостной ролик, репортаж о горной экспедиции, о поп-фестивале или телеэтюд о каком-нибудь племени, живущем на другом краю земли. Однако, по кинематографической терминологии, документальный фильм — лишь одна из форм фильма non-fiction, а сам термин придуман в 1926 году теоретиком и историком кино Джоном Грайерсо-ном (после того как он увидел «Моану» Роберта Флэерти) для описания «творческой обработки актуальности».
Для достижения этого можно потерпеть и некоторую степень «драматизованной реконструкции», если это помогает пониманию сюжета, хотя ученые мужи-кинокритики бесконечно спорят о приемлемой линии предела этого. И особенно — о том, допустимо ли, чтобы актеры реконструировали деятельность реальных людей.
Коль скоро сущность творческого выражения в том, чтобы с силой пробивать общепринятые границы, ибо только так можно достичь новизны и энергии, можно выдвинуть мнение, что попытка слишком точного определения любой частной формы искусства — не что иное, как нонсенс, и побуждает к новым переоценкам. Не требуется особых логических умствований, чтобы признать, что беллетризованная драма должна убеждать своих зрителей реальностью или, если хотите, реализмом, во всяком случае, своих главных персонажей и что линия между документом и беллетристикой необыкновенно тонка, если вообще существует.
А поскольку каждый фильм (да и любая фиксация памяти) подвергается редактированию — то есть пропускается через точку зрения его автора, а также через взгляд зрителя, то это очень серьезный аргумент в пользу позиции, что фильма non-fiction — как и любого другого произведения искусства non-fiction — не существует вовсе! Но, возвращаясь к общепринятым понятиям, остановимся на позиции, что документальный фильм тем и отличается от простой киноленты, фиксирующей факты, что в нем содержится некое послание либо ставится социально-экономический вопрос.
От этого утверждения до взгляда на документальный фильм как на пропагандистское произведение — то есть конкретный продукт по продвижению того или иного сообщения путем информации или умышленной дезинформации — один шажок.
«Пропаганда едва ли менее правдива, чем любое традиционное искусство, стремящееся к достижению неких специфических эмоциональных эффектов, ставящее целью внушить тот или иной взгляд на мир», — писал в 1973 году Кен Келман в содержательном исследовании «Триумфа воли». И добавляет, что дурная репутация этой вещи базируется в значительной мере на том, что — против общего правила, что пропаганда редко достигает своих целей, — «Триумф воли» достиг успеха практически с любой точки зрения, с какой ни возьмись судить о нем: артистической, кинематографической, документалис-тической. Ну и, конечно, как мощный инструмент нацистской пропаганды. Сама же Рифеншталь постоянно отрицала, что этот фильм можно интерпретировать как пропаганду. Это — cinema verite, киноправда.