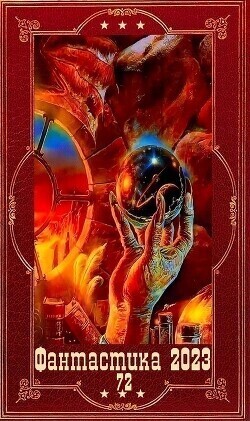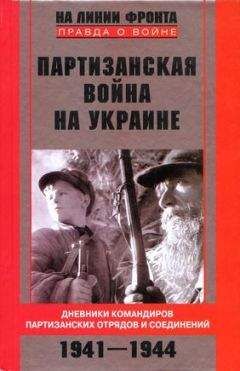Стихи читали преимущественно фронтовых поэтов: Константина Симонова и нашего «волховчанина» Павла Шубина. А его песню «Волховская застольная» пели хором:
Выпьем за Родину!
Выпьем за Сталина!
Выпьем и снова нальем!
Вечером в нашей землянке собрались на праздничный ужин. Приглашены помкомвзвода сержанты Шарапов и Сушинцев. Через «Военторг» достали несколько бутылок водки, к празднику выдали дополнительный офицерский паек. Пировали до трех часов ночи. Полякова с нами не было – ушел в батальон. В землянке тепло и уютно. Горит из латунной гильзы свеча. Стол сервирован стараниями Савина – он сидит на своем топчане и смотрит на нас со счастливой улыбкой. Он выпил с нами, закусил, поздравил с праздником, но принимать участие в офицерской беседе считает для себя неприличным. Шарапов по-особенному торжествен: в новом обмундировании, аккуратно подстриженный и чисто выбритый, он никак не похож на того Шарапова, которого я знал прежде. За столом Шарапов сидит прямо, степенно и чинно – на его груди, слева над карманом, свежим серебром сверкает медаль «За отвагу». Сегодня он ходил за нею в полк, где сам Репин вручал награды немногочисленным героям смердынских боев.
Сквозь легкий хмель я слушал совсем еще свежие воспоминания о покойном командире роты Федорове, о тяжелых условиях боев, о погибших товарищах.
– Э… Что будешь сделать… да, – мрачно произнес вдруг Вардарьян, – не дожил наш Федоров до награды… Сегодня должен был «Звездочку» получать… Как скажешь… а!..
– А что, товарищ лейтенант, – сказал Сушинцев, обращаясь к Вардарьяну, – вас будто тоже представляли?..
– Э… Мало кого представляли! – Вардарьян метнул на Сушинцева недобрый взгляд. – Давай, Андрей, выпьем!.. Тебе сегодня много писем было… Что твоя девушка пишет… а?..
– У нашего лейтенанта девушка, видать, больно грустная, – сказал захмелевший Шарапов, – я карточку глядел…
Посмотрев на своего помкомвзвода, я увидел в его взгляде столько теплоты, что забыл все обиды и притеснения, чинимые поначалу.
Я показал Никину фотографию, прочел некоторые выдержки из ее письма. Тут каждый стал вспоминать что-то из своей прошлой, мирной жизни… Неприятный осадок, вызванный репликой Сушинцева, вскоре исчез. Вечер закончился мирно. Сержанты ушли к себе. А мы легли каждый по своим койкам. Степанов вскоре захрапел. Липатов молчал. Лишь мы с Вардарьяном переговаривались до рассвета…
2 мая. Проснулись поздно. Завтракали не спеша. Оба праздничных дня наши. Немцы ведут себя тихо – ни минометных налетов, ни пулеметной пальбы.
– Може, фриц тож Первомай справляет, – сказал неуверенно Зюбин и, довольный, чему-то засмеялся…
4 мая. Заступил дежурным по батальону. Ночью свободно – пишу письма. Я сообщал своей матери, что «фронтовая жизнь меня многому научила» и что я «стал каким-никаким, а все-таки плотником: могу обработать ствол и знаю, как вязать бревна „в шип“ и „в лапу“. Умею готовить пищу и стирать собственное белье». И эти слова не были бахвальством. И в том, что я теперь умею, была немалая заслуга моих учителей: Шарапова и Спиридонова, Зюбина и Морина. На фронте суровый закон: сначала дай и помоги, если хочешь, чтобы тебе потом помогли и дали! Они чувствовали, что я нуждался в их помощи, и давали то, что могли дать! Часто грубо и жестоко, но от чистого сердца. Тот же, кто игнорировал этот закон, тот не мог рассчитывать выжить в этих экстремальных и нестандартных условиях фронта! Мои солдаты и подчиненные, мои товарищи по передовой поверили в меня, лишь только убедились в том, что сам я готов на физическую и нравственную самоотдачу.
Лишь один человек не поверил мне, я это видел и знал. И этот человек – мой непосредственный командир старший лейтенант Поляков.
6 мая. Установилась теплая весенняя погода. Вокруг все стрекочет и поет. Зеленеют луговины, набухли и лопаются почки. Положение на нашем участке стабилизировалось. Дежурим на наблюдательных пунктах. Ведем разведку целей противника, проводим контрольную пристрелку реперов. Продолжаем строительство и укрепление фортификационных сооружений переднего края. Между тем в людях начинает ощущаться какая-то особенная нравственная усталость. И не опасности переднего края, не тяжести физических нагрузок угнетающе действуют на людей. Нет! Изолированность и оторванность от общей жизни, от себе подобных, от женщин – вот что подламывало твердость человеческого духа.
– Э. Слушай! – ревел Вардарьян, ворочая, как бык, налитыми кровью белками. – Долго здесь будем комаров кормить, а? Наступать лучше. Туда-сюда, да! Движение, нанимаешь, да. Людей видишь, жизнь смотришь. Тяжело бывает, страшно бывает. Убить могут, да! Что будешь сделать! Нанимаешь. Всю ночь девки снились, да! Куда бежать. Кругом болоты. Комары. Ни одной девки, да!
Вардарьян смеется искренне и добродушно, в его черных навыкате глазах искрятся слезинки.
– По мне, начальник, – мрачно хрипит Зюбин, – шо такая жисть, шо лагерная, одно к одному. Там тебя только легавый со шпалером нянчит. Тут у самого берданка. Что лучше, начальник, не знаю.
Один Степанов ни на что не реагировал, и весна, казалось, на него никак не действовала.
8 мая. «Совсем уже лето, – пишу я, – трава бурно идет в рост, и по ней всюду желтые и белые цветы. Распустился кустарник, зеленеют деревья. Воздух пронизан теплом и высоко в небе поет жаворонок».
Места, которые мы теперь занимаем, необыкновенно красивы и поэтичны. Я иду через лес, ошалевший от запахов трав и аромата каких-то цветов. Казалось бы, чего более – отдыхай, набирайся сил, пользуйся случаем. Нет! Мы всё куда-то рвемся, нам всё не хватает новых впечатлений.
Вернувшись из обхода, я сел за работу над батарейным планшетом. Вардарьян приносит мне его как бы для «доработки». И я вновь черчу то одну, то другую схему. Поляков по-прежнему меня игнорирует. Но в работе над батарейным планшетом более моими способностями не пренебрегает. Правда, действует только лишь через Вардарьяна.
Я сижу за столом и смотрю на белое поле планшета, но мысли мои далеки и от координатной сетки Гаусса, и от угломерных делений.
Вчера я бродил по передовой – нужно было уточнение топографической привязки некоторых ориентиров. Так я забрел в глухие, нехоженые места и обнаружил там, среди зарослей кустарника, останки солдата, вероятно лежащего тут еще с сорок первого года. Оголился череп, полуприкрытый каской, оголились белыми штрихами кости пальцев руки, все еще сжимавшей поржавевшую винтовку. Шинель, подсумок, сапоги – все цело и, несмотря на ветхость, сохраняло форму. В пустых глазницах копошились черви, омерзительные, жирные, белые черви. Солнце слепило глаза. Жужжали какие-то насекомые и мошки. Зеленели нежной весенней листвой молодые побеги. И среди пробуждающейся природы лежит этот Прах, как бы уже сроднившийся с землею, полупоглощенный ею.
Я стоял в