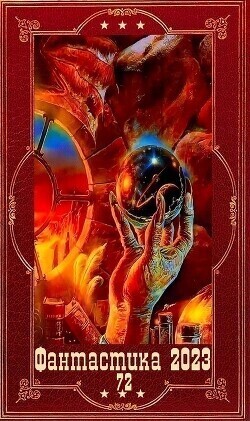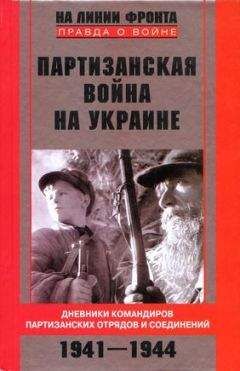передовой.
– Сейчас немцы дадут ответный налет, – сказал я, – мы не имеем права рисковать. Пора уходить.
– Да, да, – согласился корреспондент и, придерживая каску, автомат, противогаз и сумку, побежал за мною по траншее в тыл.
Не успели мы пробежать и полусотни шагов, как услышали шуршание немецких мин. Три разрыва, только три, хлопнули где-то рядом. По счастью, между ходами сообщений. Измученный, вспотевший, но довольный корреспондент благополучно вернулся в расположение нашей минометной роты.
– Я полагаю, – сказал он Вардарьяну, – заметку лучше будет преподнести как сигнал с места. Прессе ведь нужна массовость.
Через несколько дней в роте читали статью, озаглавленную «Быстрота и точность» и подписанную – лейтенант Ф. Липатов.
«К одной из траншей, – так начиналась статья, – подошла группа фашистов с лопатами. Гитлеровцы, видимо, решили углублять траншеи. А неподалеку из леса доносился стук топоров». К слову сказать, лес в этом районе на значительном расстоянии от передовой и никакой «стук топоров» оттуда не мог быть услышан. «Это выследил, – написано было далее, – наблюдатель А. Николаев. Определил он расстояние до цели, подготовил данные и вызвал огонь. Расчет старшего сержанта Василия Сушинцева всегда готов к бою. Бойцы моментально заняли места у минометов. Завыли мины. Они с грохотом рвались. Миномет бил точно. Первые же мины накрыли фашистов в траншее». Миномет, действительно, бил исключительно точно, но лишь потому, что у прицела стоял не Сушинцев, а Шарапов. Но в прессе был отмечен Сушинцев – секретарь нашей небольшой партийной организации. «В лесу продолжался стук топоров, – фантазировал далее корреспондент, – Николаев перенес огонь туда. Наши минометчики и там накрыли немчуру. Чтобы бить врага наверняка, наши минометчики без устали совершенствуют свои знания. Тщательно изучают взаимодействие частей, приемы быстрой и точной стрельбы».
Читая заметку, мы вспоминали посещение батареи корреспондентом, от души смеялись, нам было приятно и лестно, что о нас пишут в газете, хотя бы и таким образом. Обидно было лишь Шарапову, и он не упускал случая кольнуть Сушинцева ядовитым словцом. Я вырезал из газеты сам текст заметки и отослал вырезку домой. Но забыл при этом уточнить дату выхода газеты и ее номер.
11 мая. Приобрел великолепную золингеновскую бритву фирмы «Близнецы». Даже здесь, среди трофейного барахла, такая бритва считается редкостью и ценится довольно высоко. Мне она обошлась военторговской бутылкой водки с закуской – полбуханки черняшки и банки консервов из доппайка. «Теперь, – записал я, – мне нет надобности заимствовать этот персональный инструмент у кого-то из посторонних».
12 мая. Вечер. Я лежу на своей койке. А перед глазами плывут и плывут миражи воспоминаний. Дачный поселок Николина Гора. Последний предвоенный год. Стройный девичий стан в легком цветастом сарафане. Загорелые босые ноги и кокетливая шейка с изящной стрижкой чарльстон.
Наступила ночь. Бесподобная майская ночь. Вспомнился Гоголь, сказавший, что в лунную майскую ночь спать невозможно. На подмосковных дачах, наверное, уж распустилась сирень. И какая-нибудь Наташа Ростова, подхватив себя под колена, готовится взлететь в небо. А ночь действительно великолепная, спокойная, тихая. Всё будто замерло в неподвижной весенней истоме. Я лежу на своей койке, Вардарьян – на своей, Степанов пьет чай с печеньем, Липатов дежурит на НП. Снаружи около окна, в холодном отсвете луны, белеют какие-то небольшие нежные цветочки. Отсветы луны проникают в наше «купе» серебристо-зеленоватыми бликами и спорят с оранжевыми отблесками печурки, на которой старик Савин готовит нам ужин.
– Что у тебя опять с Поляковым вышло? – спросил Вардарьян.
– Ерунда, – ответил я, – мелочь… Сижу около блиндажа – черчу схему… Солдаты роют запасные… Вдруг: «На сколько процентов дали план?» Я от неожиданности рот разинул… Думаю: кой черт тебя принес? План – план тебе будет. Чего беснуешься? Не дождавшись ответа, ушел…
– Теперь в наряд упрячет, – меланхолично изрек Степанов.
– Сволощь он. Что будешь сделать… да?..
– Да пес с ним – с нарядом, – сказал я, – какая разница, где и когда дежурить… Вы только взгляните – ночь-то какая!.. В этакую-то ночь только и танцевать под «Брызги шампанского» – есть такое танго!
– Э… Слушай! – засмеялся Вардарьян, – не умею я танцовать… да. А ты, Степанов, умеешь… а?..
– Не… Не умею, – раздался равнодушный голос снизу.
– Один ты, Андрей, умеешь… да?.. Поляков еще умеет… Почему вместе не танцевать… Хорошо… а?!. Еще я песни люблю… Хорошие песни… Вон как наши солдаты поют… Слушай… да…
На улице Сушинцев, Морин и еще несколько человек пели украинскую «Галю»:
Йэх ты, Галю,
Галю молодая,
Краще тэбэ будэ!
Дивчина роднае.
Солдаты пели стройно, красиво и звонко… Пели так, что наверняка было слышно у немцев… Но ни один снаряд не упал, ни одна пуля не просвистела в эту тихую, прекрасную майскую ночь.
13 мая. Поляков назначил меня дежурным по батальону вне очереди. Наступила ночь, такая же, как и вчера. Время коротаю у телефонов за книгой о Кутузове. Автор неизвестен – обложка оторвана.
Под утро заснул. Снится Николина Гора и голос Тани – она поет арию из «Лакмэ». Я узнаю ее голос из десятка других голосов. Но почему из десятка? Десятка – это десять. Но почему десять?!
– Десять минут, товарищ лейтенант, десять минут до подъема.
У топчана стоит часовой и трясет меня за плечи:
– Проснитесь!
Холодная вода обожгла освежающей струей, и сна как не бывало.
– Хорошо утро майское? Так, что ли? – спрашиваю у часового.
– Это точно, хорошо, – отвечает молодой парень из пехотных.
– Звони по ротам, – говорю телефонисту, – подъем!
Ожила передовая. Из землянок выскакивают солдаты – белеют нижние рубахи и оголенные по пояс тела. Слышится смех и перебранка. Утро свежее и теплое. А в напоенном весенними ароматами воздухе чувствуется уже изнуряющая истома приближающегося жаркого дня.
18 мая. В письме от матери я получил целую пачку папиросной бумаги. Курить аристократический табак «Золотое руно» в газете, как махорочную цигарку, не эстетично. На передовой идиллическая тишина. За водой на Тигоду обе стороны ходят в открытую – будто и нет тут никакой войны. Минометная профилактика прекратилась, минометы стоят зачехленными. Молчат и пулеметные точки.
19 мая. В батальоне появился начфин со своим «бронированным» портфелем. А за начфином, словно тень, знаменитый по всей передовой «маркитант от Военторга» – пожилой еврей с большим носом и золотыми зубами, в фуражке с матерчатым козырьком – прямым, засаленным и грязным. Свой товар он привозит в фанерном фургоне, на боковых стенках которого по ядовито зеленому полю ярко-канареечной краской надпись: «ВОЕНТОРГ». Фургон этот возит тощая, грязная кляча, никогда не знавшая ни скребницы, ни щетки. Маркитант останавливается на