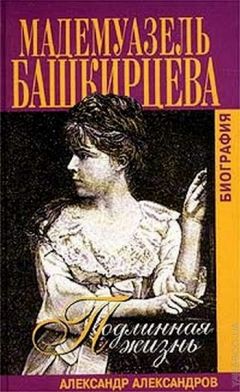Все складывается хорошо, кроме здоровья. Кажется, она уже начинает догадываться, что больна неизлечимо. Еще в январе мадам Музэй пишет ее матери в Россию, упрашивая поскорей приехать. Та отвечает истерически-нежными письмами, но не едет.
«27 января, Харьков.
Мой обожаемый ангел, дорогое дитя мое Муся, если бы ты знала, как я несчастна без тебя, как беспокоюсь за твое здоровье и как я хотела бы поскорей уехать!
Ты моя гордость, моя слава, мое счастье, моя радость!!! Если бы ты могла представить, как я страдаю без тебя! Твое письмо к m-me А. (Аничковой — авт.) в моих руках: как влюбленный, я все перечитываю его и орошаю слезами. Целую твои ручки и ножки и молю Бога, чтобы я имела возможность сделать это поскорее на самом деле.
Целую нежно нашу дорогую тетю.
М.Б.»
Есть неизданный ответ дочери на это письмо:
«Будучи вольной или невольной причиной всех моих несчастий, так как это из-за Вас я проводила и провожу мою молодость взаперти, не видя никого, кроме де Музэй или старых Гавини, и еще кого-то вроде них; так вот, будучи причиной моей моральной смерти, Вы могли бы не обрекать меня на смерть физическую… Раньше предлогом для драм был Жорж, теперь — я. Вместо того, чтобы говорить мне о Вашей любви, вспомните, что вы морально убили меня, Вы и Ваш Жорж. С меня достаточно трагедий, я повторяю Вам, что чувствую себя хорошо и сожалею об этом. Раз я не умираю от болезни, то определенно найду другой способ, когда окончательно потеряю надежду выбраться из этой ужасной, отвратительной жизни, которую Вы мне создаете». (Неизданное, запись от 10 февраля 1881 года.)
Кто из них вносит больше истерики в совместную жизнь, предоставим судить читателю. Одно можно сказать, что во всем, что касается упреков, бросаемых Марией Башкирцевой другой Марии Башкирцевой, старшей, которые можно было бы расценить, только как всплески эмоций избалованной истерички, ранняя смерть ее оправдала. Вероятно, в ней жило предчувствие скорого конца и почти с мазохистким наслаждением она в себе это предчувствие лелеяла, не давая забывать об этом и самым близким.
«Почему мама не возвращается? Они говорят, что это каприз с моей стороны, ну что ж, пусть будет так. Может быть, еще один год. 1882 год — очень важный год в моих детских мечтах. Именно 1882 год я наметила, как кульминационный, сама не знаю почему. Может быть, потому, что умру. Сегодня вечером скелет переодели в Луизу Мишель, с красным шарфом, сигаретой и резцом вместо кинжала. Во мне есть тоже скелет, все мы кончим этим! Страшное небытие!» (Запись от 9 января 1881 года. Эта запись есть только в более полном французском издании.)
Луиза Мишель, известная анархистка, участвовавшая в коммуне, была, после разгрома коммуны сослана в Новую Каледонию и в 1880 году по амнистии как раз вернулась в Париж. Возвращение Луизы Мишель — это была новость, которая безусловно будоражила общества — она обсуждалась везде. По убеждениям Луиза Мишель была эдаким князем Кропоткиным в юбке. Выступала за эмансипацию женщин, что, вероятно, было близко Башкирцевой. К тому же она была писательницей, и предавалась этому занятию, коротая жизнь в тюрьмах, а если не в тюрьмах, так в сумасшедших домах.
Наконец в Париж является мать Муси, а следом за ней — отец. Они приехали, чтобы увести Марию в Гавронцы, но дочь противится, надо дождаться открытия Салона, а потом и его закрытия. Где-то в глубине души у нее теплится надежда, что она может получить медаль. На вернисаж по ее билету они идут вчетвером: отец, мать, Алексей Карагеоргович и сама Муся. Потом Муся еще не раз посещает Салон, общается с художниками, ее хвалит сам Лефевр, находя в ее картине большие достоинства.
Но отец хочет уехать, как можно быстрей. Ему эта живопись вообще «до лампочки». Муся согласна ехать в Россию, если подождут еще неделю. Ей хочется дождаться вручения наград. Дождавшись, она расценивает это вручение, как большое горе для себя, о котором знает только Жулиан. Мы не знаем, что именно, какую награду получила на этом Салоне ее счастливая соперница, Луиза Бреслау, но она ее получила. Она несколько раз была награждена на Салонах. То, что награду получила Бреслау, не участвовавшая в пресловутом соревновании по заданию Жулиана, особенно задевает Марию; в дневнике, против своего обыкновения, она даже не отмечает, что это был за приз, а проверить у нас нет возможности, хотя, наверняка существует какой-то французский источник, где перечисляются все награды всех Салонов за время их существования.
Когда она записывает в свой дневник о своей болезни у нее вдруг неожиданно вырывается:
«…Но картина Бреслау! Это ужасно. Вот денек!..» (Запись от 20 мая 1881 года.)
Вероятно, она только что узнала о присуждении наград. Она ничего не получила в этот раз. Полугодовой марафон с участием в Салоне закончен. Париж подспудно угнетает, хотя она все еще хочет остаться и подговаривает доктора, чтобы тот убедил родителей не брать ее с собой для ее же пользы. Но на перроне, когда она провожает отца и мать, с ней вдруг случается истерика: она рыдает, мать рыдает, тетя рыдает, рыдает и Дина, а отец растерянно вопрошает: «Что же делать?» Проводники не пускают ее в вагон, так как для нее нет билета. Родители и Дина уезжают. В дверях отходящего поезда она видит мать, заламывающую руки.
«Я плакала о том, что нужно было ехать, плачу о том, что осталась. О Бреслау я почти забыла, но… я ничего не знаю, я думаю, что здесь я буду лучше лечиться и не буду терять времени». (Запись от 23 мая 1881 года.)
Не забыла она о Бреслау, это так, фигура речи. Занозой сидит в ее сердце успех соперницы.
На следующий день Башкирцева заезжает к Тони Роберу-Флери, который сильно болен, оставляя ему благодарственное письмо. Заезжает и к Жулиану, но его не застает. Для нее все решено — в этот же день она покидает Париж.
Ее статья, посвященная последнему Салону и подписанная Полиной Орелль, появляется в журнале «Гражданка» уже после ее отъезда. В ней она раздает всем по заслугам: Бугро, Бастьен-Лепажу, Каролюс-Дюрану, одним словом, всем знаменитостям, не забывает и Бреслау, с которой сводит счеты на журнальных страницах.
Через пару месяцев, вернувшись из России в Париж, она запишет в дневнике:
«Я пересмотрела свои картины, по ним можно проследить мои успехи шаг за шагом. Время от времени я говорила себе, что Бреслау уже писала прежде, чем я стала рисовать… Вы скажете, что в этой девушке заключен для меня весь мир. Не знаю, но только не мелкое чувство заставляет меня опасаться ее соперничества.
С первых же дней я угадала в ней талант. Один ее штрих на одном из моих рисунков кольнул меня в самое сердце — это потому, что я чувствую силу, перед которой я исчезаю. Она всегда сравнивала себя со мною. Представьте себе, что все ничтожества в мастерской говорили, что она никогда не будет писать, что у нее нет красок, а есть только рисунок. Это же самое говорят обо мне…» (Запись от 18 августа 1881 года.)