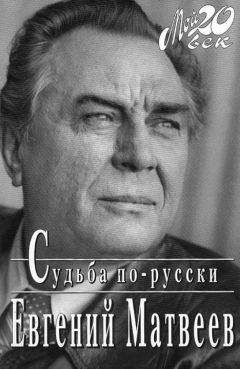— Сам-то Сергей видел?
— Видел.
— Какая реакция?
— Сказал: «Ага, ага…»
— Филипп звонил. Просил привезти пробы ему. Покажи обязательно, дело нешуточное.
Показал фотографии председателю Госкино Ф.Т.Ермашу. Он несколько раз перебрал их. Вижу, щеки его все больше стали покрываться румянцем — он заволновался. Понять министра было можно: Бондарчук — маститый, с ним не поговоришь так, как с менее известным актером. Если отказать, то как это сделать? Все-таки Бондарчук. Ермаш видел, что на фотографиях не тот Сталин, который был нужен в фильме. Да, все есть — усы, грим, но это не Сталин: глаза могут выдать…
— Кинопробу будешь делать? — спросил Филипп Тимофеевич.
— Буду. Оператор со светом поработает, поколдует… А вдруг получится?..
— Ладно… А это я кое-кому покажу. — И положил пачку фотографий в карман пиджака.
Кинопробу Сергей Федорович попросил сделать без партнеров и без моих замечаний на площадке. Я понял — ранимое самолюбие. Эта зараза сидит в каждом из нас. Вообще-то со стороны Бондарчук производил впечатление человека из брони, без нервов. Я бы с этим согласился, если бы не был свидетелем совершенно изумившего меня состояния актера.
Как-то в Кремлевском Дворце съездов был торжественный концерт (сейчас уже не помню, по случаю какой даты). В первом ряду сидели члены Политбюро, ЦК во главе с новым генеральным секретарем М.С.Горбачевым. Действо транслировалось в прямом эфире по телевидению.
По замыслу режиссера концерта, мы, Бондарчук, Кадочников и я, должны были читать на авансцене, перед закрытым занавесом, за которым находился хор. Каждый из нас читал какой-то отрывок: Бондарчук из «Судьбы человека», а вот что читали мы с Кадочниковым, — подзабылось. Да и не в этом суть. Как обычно тогда делалось? Раздался звонок: «Послезавтра вы участвуете в концерте во Дворце съездов». Никто даже в таких случаях не спрашивал, готов ты к этому или ты занят. Нет, «есть решение», и ты должен отбросить все дела и готовиться к ответственному выступлению.
Естественно, за такое короткое время выучить наизусть текст нереально. Поэтому все мы нервничали, час за часом приближались к стрессу. Одно дело сыграть роль в той же «Судьбе человека», и совсем другое — читать прозу, отрывок из произведения Шолохова. Режиссер, страхуясь от возможного провала на концерте, предложил нам записать наше выступление на пленку, то есть «дуйте», мастера, под фонограмму…
Но такого опыта у нас — нуль… Опять скажу: одно дело петь, как теперь говорят, «под фанеру», и совсем другое дело читать прозу. У певца есть ритм, темп, музыка, проигрыши, когда можно подстроиться, а тут если не в том месте и не так взял дыхание — все! Артикуляция может не совпасть с той, что была во время записи…
Так что нас колотило, мы чувствовали себя неуверенно. Ладно бы только меня — я псих. Но Сергей Федорович! Он ходил за кулисами, как лев в клетке, от волнения его качало, он вздрагивал, облизывал пересохшие губы. Но изо всех сил крепился, чтобы никто не заметил его состояния. Самолюбие!
Вышли мы, «тройка гнедых», одеревеневшими ногами на сцену. Я-то в последний момент схитрил — поднял свой микрофон к лицу так, чтобы за ним не было видно губ. На общем плане их движения не было видно, а голос шел. Кадочников, глядя на меня, тоже сообразил сделать то же самое. А Бондарчук так волновался, словно впервые вышел на сцену… Я даже видел, как сквозь брюки дрожали его ноги…
Конечно, он не всегда попадал в фонограмму и сам понимал это… Закончили мы свое выступление… Аплодисменты… За кулисами Павлу Петровичу Кадочникову, как старшему из нас, кто-то проворно подставил стул. Сергей уперся в стену — лицо его было белым, как буйная его седая шевелюра. Понимая, что с ним сейчас происходит, я боялся, что ему будет плохо, Но сделал вид, что ничего не замечаю. Сказал только:
— Ну чего здесь стоять? Пойдем на воздух…
— Пойдем напьемся! — тяжело выдохнул этот могучий человек.
— Намек понял, — отшутился я…
Шли мы по пустынному пространству ночного Кремля. И вдруг неожиданно Бондарчук пустился в лихой пляс! Смеялся, выбивая каблуками дробь. Я думал, что он сошел с ума! Это напоминало мне сцену из фильма Довженко «Земля», где Иван пляшет так, что пыль стоит столбом… И тут было похоже — выпускал мужик пар!.. Думаю, что такого кремлевские соборы, стены, башни не видели никогда…
— Куда идем? — спросил Сергей:
— Ко мне.
— Нет, ко мне! Только водку просить будешь ты. Мне Ирина (Скобцева — Е.М.) не даст.
Вот тогда, после выступления, я и видел Бондарчука ранимым… Незащищенным…
Но вернемся в павильон, где мы делали кинопробы. Сталин (Бондарчук) сел за стол. Оператор возился недолго — свет поставили заранее, на дублера. Накануне я-сознательно дал Сергею Федоровичу тот кусок из сценария, тот текст, где Сталин не вождь, не диктатор, а где он шутит. Я хотел, чтобы бондар-чуковский Сталин был не просто волевым, сильным, колючим — такое представить было нетрудно. Мне хотелось другого — чтобы была видна его ирония, усмешка, подковырки. Я сознательно провоцировал Бондарчука сыграть Сталина таким, «вытащить» такие черты, которых мы еще в кино не видели…
— Мы готовы, — вполголоса сообщил оператор.
— Сергей Федорович, будешь готов, скажи, — тоже вполголоса проговорил я.
Бондарчук размял «Герцеговину Флор» (любимые папиросы Сталина), кивнул головой — готов.
Я подал из-за камеры реплику Черчилля: «Этот флот должен быть потоплен или разделен!»
Сталин: «Германский флот нужно разделить. Если господин Черчилль предпочитает потопить флот, то он может потопить свою долю. Я свою топить не намерен!..»
— Стоп! — скомандовал сам Бондарчук, не закончив монолог… Явно волновался…
— Забыл текст? — осторожно спросил я.
— Это же был не Сталин, а шашлычник какой-то! — сам себя раскритиковал артист.
— Меньше жми на акцент… — опять осторожно посоветовал я.
— Ага… — согласился «Сталин». — Давай…
По просьбе актера сделали три дубля. Отличия между ними — минимальны. Он сказал: «Всё!» И быстро ушел в гримерную…
Недели полторы мы не общались — я уезжал по делам картины в Берлин. А когда вернулся, то первый звонок ко мне был от Бондарчука.
— Евгэн Сэмэновыч! Ты знаешь, что я понял на пробе?
— Пока — нет.
— Чудак ты. Я же не Сталин, я — Тарас Бульба!.. — И смешок в трубке. — Я им глотки перегрызу, а «Бульбу» поставлю и сыграю!.. (Поставить и сыграть Тараса Бульбу было его мечтой еще со времен «режиссерской» юности. Он добивался постановки этого фильма. Но, к великому сожалению, ему не дали это осуществить. Протестовали главным образом наши братья по социалистическому лагерю — поляки. Я сам был свидетелем разговора, когда главный польский коммунист Эдвард Герек сказал: «Польским людям это не надо. Если вы поставите „Тараса Бульбу“, то в Польше поставят фильм…» И он назвал какое-то произведение — я сейчас уже не помню какое, — в котором русские выставлены не в самом Лучшем виде.)