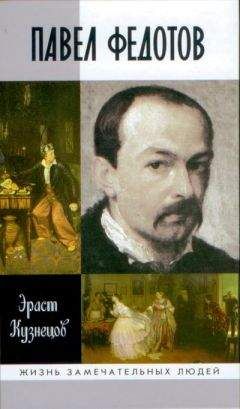«Ни один счастливец, которому было назначено на Невском проспекте самое приятное рандеву, не мог более обрадоваться своей красавице, как я обрадовался моей рыжей бороде и толстому брюху», — вспоминал он потом, и в признании этом содержится более глубокий смысл, чем может показаться. Купец — ни сложением, ни лицом вовсе не Аполлон — был для него предметом эстетическим, способным заставить любоваться собою как всяким ярким явлением жизни, характерным типом. Таким Федотов и перенес его в картину, осветив своим ласковым отношением.
Да и все герои его будущей картины были ему по-своему милы. Он давно ушел от сепий, населенных малоприятными людишками. Ушел и от «Свежего кавалера» с его жалким и неприятным героем. Ушел и от «Разборчивой невесты», персонажи которой не вызывали горячей симпатии, хотя о них грех было бы судить худо. К новым своим образам он относился так же, как относился к живым, знакомым ему людям — сочувственно, терпимо, со снисходительностью хорошо понимающего их человека. Может быть, даже еще теплее, чем к живым: все-таки это были как-никак его создания, его дети, и он любил их, как любят детей, — кто хитроват, кто робок, кто прожорлив не в меру — но всех их любишь, видя их слабости.
Да, лицемерят, хитрят, плутуют — но вовсе не злые люди; они смешны, но не противны. Не они дурны, а жизнь дурна, однако другой им не дано, и с этой, заведенной от века и не ими, приходится сообразовываться. Что же дурного в том, что купец хочет выдать дочь за благородного — это ведь происходит в стране, где и благородный не вполне защищен от произвола, а уж купца любой квартальный может оттаскать за бороду (не Англия!).
И, право же, можно полукавить, сыграть невинную комедию, потрафить собственному самолюбию.
У каждого из них была своя правда, и каждого он понимал. Ту же Мать — крупную, преждевременно располневшую женщину, в чьем отяжелевшем лице легко видны остатки угасшей спокойной и ясной русской красоты. Пусть она и разоделась в не совсем идущее ей сияющее переливами атласное платье и на плечи накинула тонкую дорогую шаль, не изменив лишь обычаю повязывать голову платком. Но она обуяна материнским желанием пристроить получше дочь и проникнута ответственностью, которая лежит на ней: глыбисто-тяжеловесная, она кажется подлинной хозяйкой в доме, вертящей всем, как ей надо (домострой домостроем, а в реальной жизни все складывается порою куда сложнее). Она и перепуганную дочь приведет в чувство, и мужа незаметно одернет и направит, а тех, задержавшихся в углу у стола, удалит одним повелительным взглядом.
Ту же Сваху, сноровисто вершащую свои обязанности; ее льстивая угодливая улыбка ничего плохого о ней не говорит, это всего лишь средство ее ремесла, причем ремесла нелегкого — чего не натерпишься, чего не выстрадаешь: и взашей выставят, и опозорят на людях, и обведут при окончательном расчете. Уж куда лучше в ее годы не мыкаться по чужим домам, а сидеть в своем собственном. И она, конечно, играет роль… Да кто же не играет какую ни есть роль в этом торжище житейской суеты, что именуется нашим миром, в этой подлой и пошлой жизни, господа? Кто те гордые и величавые, кто могут оставаться самими собою среди мелких страстей человеческих, — разве что одни Манфреды…
Что же до Дочери, то и в нее некому бросить камень. Начать с того, что в комедии, разыгравшейся на подмостках купеческого дома, ее роль хоть и главная, но страдательная: нарядили, вывели, строго наказав, как себя вести. И она, еще не приученная жизнью к лицемерию, ведет себя натуральнее всех. «Сколько милой трогательности в сконфуженности невесты, стыдящейся своих, открытых для нескромного взгляда, плеч и метнувшейся в сторону движением, в котором стремительность своеобразно сочетается с плавностью. И вся девушка напоминает большую светлую птицу на взлете…»22 Ни фальши, ни корысти, ни себялюбия не проглядывает в этом трогательном и прелестном существе, самой природой предназначенном для жизни, пусть не очень духовной и совсем не героической, но естественной — стать женой, завести детей, обогревать дом теплом своей женской души. Разве мало этого, чтобы оправдать человеческое существование?
Своя правда и у Майора, и кому, как не Федотову, было понять этого строевика — если и не воевавшего, то все равно загубившего полжизни на караулы, смотры и разводы и сейчас заслужившего право на покой. Сделка? Так ведь ничего не дается даром в этом мире, а он по крайней мере расплачивается не чужим, не ворованным, а своим, кровным. Молодится? Так ведь женится на молодой, и приходится стараться, чтобы не стариком выглядеть и будущую родню не напугать.
Федотов так проникся положением Майора, сжился с ним, словно с сослуживцем, так живо и рельефно представлял себе со всеми привычками и замашками, вплоть до манеры обращаться с денщиком, так вошел в его, Майора, соображения, расчеты и притязания, что жалко было значительную часть придуманного оставлять втуне. Понемногу сами собою стали складываться у него в голове рифмованные строчки, и он принялся их записывать с расчетом, закончив картину, соединить все придуманное, дописать, отшлифовать — выйдет целое стихотворение или, может статься, и поэма.
Не оставил пристальным вниманием и тех троих в углу. Фигуры, слов нет, второстепенные, но и от них кое-что зависит для понимания сути дела и для характеристики самого дома.
Скажем, Кухарка. Уже то важно, что не горничная (горничных не держат, живут по-простому), не лакей, не официант, специально нанятый из ресторации. Для Кухарки удивительно подошла прислуга во флуговском доме с ее простым и славным лицом, которому так идет чуть насмешливая полуулыбка человека стороннего, иронически взирающего на суету вокруг.
Сиделец из лавки тоже был не случаен для понимания обстановки. В благородном доме его вместе с кулями, бутылками и кузовами дальше кухни не пустили бы, а здесь он помогает накрывать на стол, да еще болтает с прислугой. Нужна была и Приживалка, высовывающаяся из двери; видно, что и ей здесь не место — в следующее мгновение она юркнет обратно, забьется в щель. Отыскивая обоих, Федотов находился по Толкучему и Андреевскому рынкам, высматривал старух и сидельцев, а тех, кто ему приглянулся, зазывал к себе, поил чаем, присматривался, запоминал, уговаривал попозировать, прельщал скромным вознаграждением; во время работы еще и развлекал беседой, а говорить он умел со всяким народом.
Даже кошку, намывающую гостей, на переднем плане, на той широкой полосе паркета, что отделяет всю сцену от зрителя, он подобрал такую, какую нужно было, сделал этюд и с кошки.
Как водится, на помощь приходили друзья, сочувствовавшие его работе и следившие за нею. Знакомый офицер постоял терпеливо для Майора, лицо же Федотов написал, глядя в зеркало, только придав себе мину некоторого самодовольства и кое в чем подправив свои черты. Для Дочери сделал этюд со знакомой молодой женщины, а разобраться с фигурой помог не кто иной, как молодой Флуг, Карл Карлович, смело накинувший на себя женское платье и ставший так, как надо было, — изогнув стан, откинув голову и разведя руки с беспомощными пальцами. Немало посодействовал и известный уже манекен, безропотно служивший изучению любой фигуры. Все-таки приходилось прибегать и к профессиональным натурщикам, как накладно это ни было.