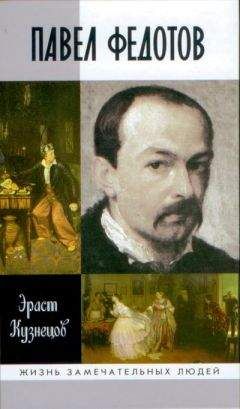Даже кошку, намывающую гостей, на переднем плане, на той широкой полосе паркета, что отделяет всю сцену от зрителя, он подобрал такую, какую нужно было, сделал этюд и с кошки.
Как водится, на помощь приходили друзья, сочувствовавшие его работе и следившие за нею. Знакомый офицер постоял терпеливо для Майора, лицо же Федотов написал, глядя в зеркало, только придав себе мину некоторого самодовольства и кое в чем подправив свои черты. Для Дочери сделал этюд со знакомой молодой женщины, а разобраться с фигурой помог не кто иной, как молодой Флуг, Карл Карлович, смело накинувший на себя женское платье и ставший так, как надо было, — изогнув стан, откинув голову и разведя руки с беспомощными пальцами. Немало посодействовал и известный уже манекен, безропотно служивший изучению любой фигуры. Все-таки приходилось прибегать и к профессиональным натурщикам, как накладно это ни было.
Его дотошность не знала предела. Каждого он рисовал по нескольку раз, в вариантах. Не упускал ни единой мелочи. И Кухарку, наполовину скрытую столом, нарисовал в рост, и Сидельца, едва видного, — тоже в рост, а для каждого из них отдельно исполнил еще тщательные зарисовки рук: как пальцы Кухарки удерживают блюдо — кончиками, за самые края, чтобы не обжечься кулебякой и не замаслиться, как мягко отогнуты пальцы, не занятые делом, как привычно рука Сидельца охватывает горлышки бутылок. Все это он рисовал, восхищаясь мудростью природы, ловко и складно устроившей человека во всех частях его тела, вплоть до руки, так гибко и пластично разворачивающейся в своих суставах, так легко подчиняющейся человеку и приноравливающейся к предметам и делу. Рисовал, наслаждаясь тем, как ладно и изящно удается воссоздать на бумаге кончиком остро заточенного карандаша предстающее ему совершенство, чувствуя себя вторым творцом его.
С такой же серьезностью он подошел и к самой обстановке комнаты. «Глубокое отвращение к рисовке предметов из головы, то есть без натуры перед глазами» (как это определил Дружинин), и тут руководило им.
Комнату, в которой должно было происходить действие, «залу», он как будто хорошо представлял себе, почти видел ее — оставалось ее в самом деле найти. Исхожено было немало купеческих домов под разными предлогами, порою вздорными: то спрашивал, не сдается ли квартира, не продается ли самый дом, то делал вид, будто ошибся адресом, и долго, показывая явную несообразительность, удостоверялся в оплошности; то, разузнав сначала о роде занятий хозяина, являлся с туманными деловыми переговорами — и всюду затягивал беседу, чтобы рассмотреть получше, не пригодится ли хоть что-нибудь из открывавшегося его глазу чужого обихода. Где находились вполне подходящие ему стены, где потолок; нашел немного из мебели и прочего, но мечтал все-таки повстречать «залу» целиком.
И встретил — правда, не в частном доме, а в трактире близ Гостиного двора, куда заглянул, заметив в окне люстру, которая «так и лезла сама в его картину». И надо же — люстра та висела как раз в нужной ему комнате: он чуть не ахнул, увидев стены, крашенные мутноватой, золотисто-бурой краской, картинки на стенах, совершенно замечательный потолок, некогда расписанный гирляндами и успевший потемнеть. Все было прямо для него, только мебель переменить на домашнюю — и устраивай тут купеческое семейство. Цвет стен хорошенько запомнил; задирая голову, срисовал роспись. Расположение картинок тоже зарисовал, хотя сразу понял, что кое-что придется переменить. Люстру чудом выпросил у хозяина — улестил, посулил, заплатил немного, — свез домой, повесил у себя в комнате, где она и висела некоторое время, смущая каждого, кто ни входил в дом, так казалась здесь странна, пока он ее не запечатлел в деталях и не вернул обратно владельцу.
Это был уже третий дом, обставляемый и обживаемый Федотовым в его картинах. Само собою, он не мог походить ни на обшарпанную конуру мелкого чиновника, ни на богатые апартаменты родителей привередливой Невесты. Но дело заключалось не только в том.
В «Свежем кавалере» (а в сепиях и подавно) весь предметный мир, составлявший собою, так сказать, скорлупу или раковину героя, оказывался в какой-то мере соучастником его неприглядного поведения и никакого восхищения вызвать, естественно, не мог. Не восхищали и вещи «Разборчивой невесты» — слишком уж заметна в них была безликая тяжеловесная роскошность, не согретая теплом человеческой жизни; впрочем, отнестись к ним с неприязнью было бы несправедливо: если кому-то не нравится вычурный канделябр или золоченая клетка с попугаем, так это дело вкуса, а не морали.
Не то — в «Сватовстве майора». Здесь наконец снова прорвалось истинное — бесхитростно заявлявшая о себе еще в ранних, дилетантских опытах и потом заглушенная тенденциозностью первых работ любовь Федотова к миру вещей. Сама действительность для него отнюдь не «отзывала сапогом» (как для малопривлекательного Версилова, героя «Подростка»), и вещи, занимающие в этой действительности столько места, не смущали своим природным материализмом, не пугали, не отвращали: нервирующие наши умы размышления о власти вещей над человеком, о вещах «хищных» показались бы ему непонятны.
Столько в каждую вещь было вложено ума, труда и мастерства, так очеловечена она была талантом и чуткостью ее создателя, так верно служила она человеку, прирастая к нему, такое богатство форм, расцветок, фактур она обнаруживала и таким явным и прямым продолжением человека становилась, что ее нельзя было не любить, ею невозможно было не восхищаться, а ее безмолвную красоту, ее тихую жизнь невозможно было воспроизводить без нежности и восторга. В этом Федотов был прямой наследник «наивных реалистов» — горячо почитаемых им старых голландцев и простодушных русских живописцев XVIII века.
Свой третий дом, купеческий дом «Сватовства майора», он обставлял с удовольствием, и всякая деталь тут была ему мила и приятна.
В этом доме все должно было говорить о жизни зажиточной и основательной, о приверженности устоям семейственности, религиозности и патриотизма: здесь не было места чему бы то ни было, свидетельствующему о роскоши и мотовстве, а также ничему показному.
Придирчиво подбирал мебель с нужным характером — покрепче, подобротнее и без затей; никаких торшеров, никаких хлипких одноногих столиков, не говоря уж о шитых экранах перед камином и безделушках на каминной полке. Мебели, впрочем, потребовалось совсем немного, да и та оказалась по большей части не на виду: четыре тяжелых стула на толстых, слегка гнутых ножках (не удержался от шутки — повторил, как бы «срифмовал» ножки одного стула с ногами Майора), круглый стол, почти весь скрытый свисающей скатертью, маленький столик справа в глубине да крохотный кусочек еще одного столика, слегка высовывающийся слева. Расставил все это по стенам — ничто не мешает, и вся комната доступна взгляду как сцена.