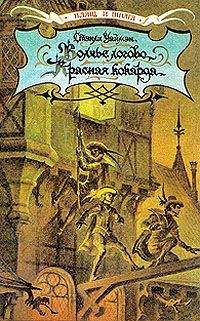Чувство сосущей тоски, всегда появлявшееся у него перед необходимостью идти в бой, на время забытое, как только он оказался среди солдат, опять подступило к сердцу.
— А ты молчи! — строго сказал он. — Не ори, раз тебя не спрашивают. Сказано, в разведку — так, значит, в разведку. А об остальном узнаешь, когда нужно будет.
И он повернулся к выходу, оставив землянку полной робкого и глухого гула. С ним в ход сообщения вышел взводный, старший унтер-офицер Романченко, высокий, стройный красавец с бритым лицом.
«Сейчас будет спрашивать! — с тоской подумал прапор. — О черт, хоть бы до вечера забыться. Вот спирту-то нет!..»
Романченко остановился на повороте рва.
— Ваше благородие! — тихо начал солдат.
— Ну? — с ненавистью крикнул Янушевич.
— Не по силам это, ваше благородие! Все лягем и пленных не возьмем.
— А разве я этого не знаю? — закругляя серые добродушные и теперь почти плачущие глаза, закричал прапор. — Разве я не понимаю этого?
И, повторяя слова Рака, но уже с явной издевкой, он докончил:
— Дисциплина. Служим Царю и Отечеству!
Но солдат принял его слова попросту:
— Разве я против этого! Но ведь зря-то чего же погибать?
Будь Янушевич на месте Рака, т. е. посылай он другою, оставаясь сам в окопах, он бы нашел для унтер-офицера слова ободрения, но сейчас говорить было не для чего: оба в одинаковом положении.
Вздохнув от тоски, Янушевич сказал:
— Пойдем в окоп, наметим, как поползем.
И унтер-офицер беспрекословно свернул в ход сообщения, ведущий в передовую линию окопов.
V
В окопах в этот час были только часовые, наблюдавшие из бойниц за противником. Вернее, они стали наблюдать за ним лишь с того момента, как увидели офицера, а до того мирно балакали, повернувшись к бойницам спиной.
Прапор с унтером прошли в дальний угол окопа, туда, где над разрушенным снарядом пулеметным гнездом не было козырька.
То же поле с бугорками трупов, но только ближе. Ближе и немецкая проволока.
Надо было наметить ту точку в этой проволоке, куда ночью поползут, а затем побегут восемьдесят гренадер шестой роты 11-го Фанагорийского полка, предводительствуемые прапорщиком Янушевичем.
— Ну, как думаешь? — безразлично и уныло спросил прапор.
— Вон там, где пень чернеет, пулемет у них, — тоже уныло ответил Романченко. — Так что левее сподручнее взять, ваше благородие. И вроде низинки там.
— Ну, возьмем левее, — тоскливо согласился прапор и ужаснулся при мысли, что через несколько часов он под немецкими пулями будет лежать в этой самой «низинке».
Со стороны противника сухо и четко в морозном воздухе щелкнул выстрел, и пуля стремительно свистнула над головами. Немец-часовой заметил высунувшиеся головы и открыл огонь.
«Ух», — дернулось близко: это наш часовой ответил по опаловому дымку противника.
И белое, солнцем горевшее снежное поле словно ожило, будто разбуженное этими двумя выстрелами.
Справа и слева захлопали винтовки, и вдруг, обрывая всю эту бестолковую ружейную болтовню, с немецкой стороны деловито закудахтал пулемет, открыв огонь по бойницам роты. Часовые спрятались, присев на земляную ступеньку.
У унтер-офицера загорелись глаза.
— Ваше благородие, прикажите их из пулемета! — шепотом сказал он. — Они нас из артиллерии покроют, и разгорится на сутки. А при огне какая вылазка!
— А что ж! — согласился прапор.
Но «номер» не прошел, не вывезла кривая. По окопу в своей меховой бекеше уже шагал Рак, свирепо матерясь.
— Курок! — кричал он часовым. — Смирно, черти! Не тревожить противника.
И, увидев Янушевича, с усмешкой спросил:
— Ну как, огляделись?
— А чего тут оглядываться! — огрызнулся прапор, не стесняясь присутствием нижнего чина. — Вон оно, поле-то! До середины не долезем. Да и раненых не вынесем.
— Ну, Бог милостив! — не замечая тона, каким были сказаны слова, ответил Рак и вдруг закричал на солдата, который повернулся спиной к бойнице:
— Ты, интеллигентное …, куда смотришь! Два наряда!
Солдат вытянулся и сунулся носом в амбразуру.
А поле гремело. Был сильный огонь и на участке соседней роты (позиция изгибалась по лощине). Шальные пули выли и стонали над головами.
Офицеры свернули в ход сообщения к землянкам.
Унтер-офицер шел за ними. Янушевич молчал. Рак насвистывал. Вдруг сзади крикнули незнакомым, по-бабьи тонким голосом. Офицеры обернулись. Романченко, прислонившись спиной к отвесной стенке рва, медленно, осыпая комки мерзло шуршащей земли, сползал на колени.
Ладонью он зажимал шею и ухо.
Сквозь пальцы сочилась темная густая кровь и каплями падала на рукав и желтый гренадерский погон с шифром великого князя Дмитрия Павловича.
В глазах унтера была дикая животная радость.
— Ваше благородие, ранен! — крикнул он.
А глаза вопили: «Значит, на проволоку не лезть!»
И, растеривая капли драгоценной красной жидкости, он бросился бегом к землянкам.
— Стой! — грозно крикнул Рак.
— Ваше благородие! — отчаянно взмолился унтер. — Да разве ж я могу теперь!..
— Стой, стерва! — еще грознее завопил хохол, смеясь одними усами.
— Такое счастье! — уже ласково сказал он, отрывая от ремня походного снаряжения пакет с сулемовым бинтом. — Погоди, перевяжу.
И, многозначительно шевельнув усами, в сторону Янушевича:
— Вот видите… Кому везет, так везет. А вы говорите!
И стал заматывать розовым бинтом окровавленную шею солдата, пачкая руки в крови. Откуда-то вынырнувший солдатишка подхватил унтера под локоть и поволок его, томно охавшего, к землянкам.
И не было ничего в мире равного по остроте зависти прапорщика Янушевича, когда он представил себе, как через полчаса санитарная двуколка, потряхивая по плохой дороге, потащит унтера от полкового околотка к дивизионному лазарету, а оттуда — в глубокий тыл.
И от страха и зависти ему захотелось заплакать.
VI
Вежливо, кончиками пальцев, адъютант передвинул на шахматной доске фигуру и сказал:
— Ваше превосходительство, ваш король проигрывает. Кажется, шах и мат.
Комкору нравились вежливые пальцы адъютанта и его ласковый голос.
Нилова не интересовал исход партии, он играл плохо: фантазии не было, была только настойчивость в смелых атаках малым числом фигур.
Адъютант играл осмотрительнее, и если и проигрывал, то только из соображений куртизанства.
— Ну, спасибо! — сказал комкор. — Можете идти. У нас есть на завтра что-нибудь?