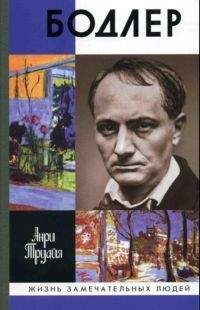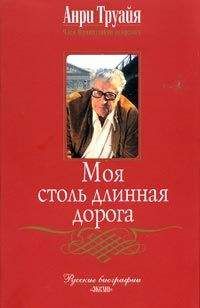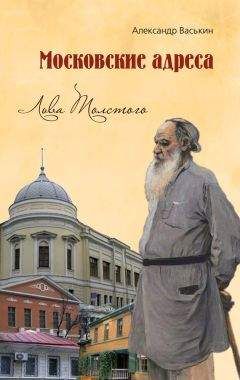Книга эта явно уступает по качеству «Цветам зла». Что-то написано великолепно, магия срабатывает, но там, где проза подавляет поэзию, получились простые, вполне заурядные, лишенные очарования новеллы. Что же превращает заклинания Бодлера в банальные рассказы: недостаточная лаконичность некоторых произведений или выбранный автором повествовательный стиль? И «Героическая смерть», и «Великодушный игрок», и «Веревка», и «Мадемуазель Бистури» представляют собой не что иное, как образчики элегантной прозы. Фразы, «лишенные ритма и рифмы», утратили музыкальность и загадочность. При том, что все навязчивые темы Бодлера налицо. Но в «Цветах зла» они выглядят священно-величественными, а в «Парижском сплине», смешавшиеся с уличным шумом, рассеявшиеся в парижском тумане, они словно утратили свой зловещий смысл. Боль здесь более повседневна, не столь убийственна, рок не так тяжко давит на плечи людей. Тоска уступила место неприятностям.
После разрыва с Уссе Бодлер предлагал свои стихи в прозе журналам, и те неохотно, но публиковали их. Однако поэт оставил за собой право рассказать о своих переживаниях того времени в «Моем обнаженном сердце». Этот сборник заметок вместе с «Ракетами», «Гигиеной» и «Записной книжкой» представляет собой совокупность личных дневников, в которых автор изливал свою ненависть и свое возмущение, рассказывал о своей печали, своей вере, о преследовавшем его страхе смерти, о своей надежде на Бога. Крайняя резкость его исповедей, их отрывистость свидетельствуют о лихорадочном возбуждении Бодлера, склонявшегося вечерами над рукописью. В комнате при свете свечи, в одиночестве он вверял бумаге свое презрение к женщинам, к ордену Почетного легиона, к демократии, к Наполеону III, к Жорж Санд, к Виктору Гюго… Он записывал вперемешку: «Чем больше человек занимается искусством, тем хуже работает его детородный орган». «Великие люди появляются только вопреки воле своей нации». «Любовь — это преступление, в котором невозможно обойтись без соучастника». «Не будучи в силах запретить любовь, Церковь решила хотя бы обеззаразить ее и придумала брак». «Мне во Франции тоскливо главным образом потому, что все здесь похожи на Вольтера». Бодлер настолько увлекся этим выстраиванием необычных мыслей, что готов был признать «Мое обнаженное сердце» основным своим произведением. Каждый день он повторял себе, что ему нужно уехать в Онфлёр и спокойно поработать там рядом с матерью. И каждый день он откладывал это необходимое и доброе дело. Он писал в «Гигиене»: «Ехать в Онфлёр! Как можно скорее, пока я не упал еще ниже. Сколько уже было предчувствий и знаков, поданных Богом, что давно пора действовать, считать каждую минуту самой важной из минут и превращать мое обычное мучение, то есть Работу, в постоянное наслаждение».
Одним из «знаков, поданных Богом», Бодлер счел теперь и кончину своего сводного брата: Альфонс умер от кровоизлияния в мозг 14 апреля 1862 года. Шарль не испытывал к нему ничего, кроме презрения и обиды. Однако для приличия написал жене покойного письмо, в котором приносил извинения за то, что не смог присутствовать на похоронах. В ответ Фелисите пригласила его заглянуть к ней. Он нехотя согласился поехать в Фонтенбло вместе с Анселем. Тот в 1851 году уже оставил нотариальную контору, но зато занял пост мэра города Нёйи, что не мешало ему продолжать выполнять обязанности представителя опекунского совета. Бодлер, хотя и пользовался не раз его благосклонностью, считал Анселя «настоящей карой», «отвратительной язвой всей своей жизни», «типичным идиотом, болваном и сумасбродом», который «понимает в литературе не больше, чем слон в танцах болеро». Даже вид этого человека вызывал у него тошноту. И вот он отправился вместе с ним в путь в одном вагоне поезда. Ужасное путешествие — сидеть лицом к лицу с неприятным тебе человеком, под монотонный стук колес. К счастью, благодаря записке, полученной от матери, он сумел вытянуть из своего глупого «советника» немного денег. «Я бы предпочел обойтись без этих 500 франков, — сообщал он Каролине. — Лучше бы я лишился этих денег, чем видеть его и часами слушать его медленное заикание: „У вас очень добрая матушка, не так ли? Ведь вы любите вашу матушку?“ Или же: „Вы верите в Бога, ведь Бог есть, не правда ли?“ Или: „Луи-Филипп был великий король. Ему еще воздадут должное…“ И каждую из таких фраз он размазывает на полчаса. В то самое время, когда в Париже меня ждут дела сразу в нескольких местах».
При виде Фелисите, одетой в черное, с глазами, покрасневшими от слез, Бодлера охватило предчувствие смерти, подкарауливающей и его. И когда он вернулся в Париж, его продолжала преследовать эта мысль: каждое мгновение жизни может оказаться последним. То ему мерещился мгновенный конец, который наступит посреди трудов и наслаждений, то он сам призывал смерть, чтобы раз и навсегда подвести черту под накопившимся грузом страданий и переживаний. То ему казалось, что он еще многое не сказал из того, что хотел сказать людям, а на следующий день чувствовал себя окончательно выбившимся из сил. Жил он по-прежнему один в гостинице «Дьеп», на улице Амстердам. Чтобы он ни съел, его мучили боли в желудке. И номер у него в гостинице был такой же темный и мрачный, как его душа. «Да, эта конура, это вместилище вечной тоски — это все мое, — писал он в „Парижском сплине“. — Вот нелепая, пропитанная насквозь пылью мебель с потертыми углами, заплеванный камин без огня и без углей, тоскливые окна со следами дождя на пыльных стеклах, разрозненные, исчерканные вдоль и поперек рукописи, календарь с помеченными карандашом траурными датами!» А в воздухе — «отвратительное табачное зловоние, смешанное с запахом какой-то тошнотворной плесени. Здесь дышится прогорклостью отчаяния. В этом тесном мирке, вызывающем только омерзение, единственное, что мне улыбается, — это пузырек с шафранно-опийной настойкой, моей старой и зловещей подругой, как все подруги, увы, щедрой на ласки и на предательство».
Опасаясь, что мать, поверив в утешительные байки о нем, перестанет тревожиться за него, он 13 декабря 1862 года посвятил ее в свое нынешнее состояние — ведь так приятно лишний раз подкинуть хвороста в огонь, который обжигает любимого человека: «Тебе сказали, что я весел. Такого не бывает никогда. Да и возможно ли такое? Разве что вдруг мне понадобилось это дикое веселье, чтобы напугать кого-то и избавиться от чьего-то присутствия. Тебе сказали, что я был хорошо одет? Только неделю назад я сбросил с себя тряпье. Тебе сказали, что я хорошо себя чувствую? Меня не покинула ни одна из моих болезней: ни ревматизм, ни ночные кошмары, ни боли в желудке, ни, главное, страх, страх внезапно умереть, страх пробыть слишком долго в живых, страх увидеть твою смерть, страх уснуть, страх проснуться. Да еще эта вечная летаргия, заставляющая месяцами откладывать на потом самые срочные вещи. Не знаю, как это происходит, но все мои странные недуги усиливают мою ненависть ко всем людям». Дальше он немного успокоился и стал рассказывать матери, что недавно ездил в Версаль, гулял в саду возле Трианона и что во время прогулки ему представилось, будто она была рядом с ним и даже произнесла со своей характерной гримаской: «Тут прекрасно, но, понимаешь, мой дорогой сын, я все же больше люблю мой сад». Ему казалось, что такая история должна была развеселить Каролину. Поэтому, напугав ее описанием своих невзгод, он закончил письмо словами: «Дорогая мамочка, мне хотелось тебя рассмешить».