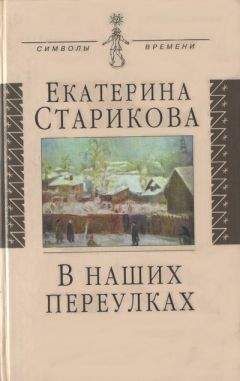Тот сон не имел у меня словесного обозначения. А вот второй имел. Я называла его «Про великана». Конечно, про себя. Я ни с кем не делилась своими тайнами.
Небесное пространство, видное мне не вширь, а в обе стороны в бесконечную глубь, пересечено широкими полосами света, а откуда-то сверху, пересекая эти полосы, но не разрывая их, а лишь изгибая, стремительно летит громадное тело с очертаниями человеческой фигуры, но и не соотнесенное ни с чем человеческим. Неясно, с какой точки пространства я наблюдаю этот страшный стремительный полет, но он нигде не кончается, он ровен и одинаков в пространстве и времени и длится, пока я не просыпаюсь с ясным ощущением ужаса бесконечности.
Мне кажется, что первый сон — из более раннего детства, а второй — из более позднего. И может быть, второй возник после того, как я однажды, проснувшись на рассвете, когда в нашей комнате все еще спали, тихо выскользнула из кровати и, подбежав к окну, встала коленями на пружинную скамеечку, застыв в восторге от невиданного еще мною зрелища восходящего солнца? Собственно, самого солнца я не могла увидеть из-за домов, а видела я только необычное для меня освещенное откуда-то снизу небо, и оно все было прочерчено грядами серых облаков, на равных расстояниях расположившихся друг над другом. Но нет, конечно нет, сон про великана возникал гораздо раньше, а тот восход и параллельные линии облаков лишь напомнили мне тогда повторявшееся сновидение.
Мое детское религиозное чувство не имело ничего общего с теми «русскими» настроениями, которые тоже владели мною одно время в 30-е годы. Их появление гораздо легче объяснить логически и исторически. Но о них ниже.
А именины я свои любила потому, что они совпадали с началом зимы, когда снег только лег на землю пушистым покровом, оттеняя серые ветви старого тополя за нашим окном ярко-белой окантовкой. Серое небо, серый тополь, серые крыши, и все это подчеркнуто и прочерчено белой кистью безупречного художника. В те именины тридцать второго года я получила в подарок только тетрадь для рисования и узенькую коробочку цветных карандашей. Бумаги было мало, как и всего остального, в школе нам выдавали тетради строго по счету в определенное время, и я радовалась папиному подарку. Грубая серая бумага тетради тут же в моем воображении воссоединилась с пейзажем за окном. Не медля ни минуты, я вывела в правом верхнем углу первой страницы тетради дату: 6-е декабря 1932 года (именины праздновали накануне, в выходной день). И скоро весь лист тетради покрылся сетью кривых линий, должных изображать ветви тополя и яблонь за окном. Белой краски не было, картина явно получалась бедноватой. Тогда на одной из веток я, как могла, нарисовала серо-черную ворону, «совсем как у Серова», — утешала я себя, и хотя продолжала сожалеть об отсутствии белой краски, но любовалась той мысленной картиной, которую рисовало мое воображение за убогим рисунком.
4
Странная вещь память: почему запоминаются навечно одни дни, не отмеченные особыми событиями, и пропадают без следа тысячи других? Так запомнился мне снежный морозный день 8-го марта 1933 года. Отчетливо вижу две детские фигуры: они весело бегут по Плотникову переулку, перепрыгивая через каменные тумбы у деревянных ворот старых особняков и соревнуясь с холодными игривыми струями поземки, сметающей сухой снег с белых утоптанных ногами тротуаров. А вот и знакомый серый домик, и узкая скрипучая лестница, и сумрачный свет через замерзшее оконце, и снова le chien, le chat, и гладкие карточки лото в замерзших руках. Может быть, то был наш последний урок в мезонине? Я не помню весенних походов туда. Может быть, наступивший совсем уж голодный 1933 год показал нашим родителям невозможность выкроить из скудного бюджета и ту мизерную сумму, что полагалась Анне Александровне за ее педагогические усилия? А может быть, она заболела и вскоре умерла?
А особо запомнился мне, собственно говоря, вечер того дня. Мама почему-то долго не возвращалась из своего ГОИНа. Я, сев делать уроки, обнаружила, что у меня нет какого-то необходимого мне карандаша, и стала просить у Сани несколько копеек, чтобы купить его. Саня уговаривала меня никуда не ходить: ты посмотри только, какая метель, куда это — на ночь глядя? Я не послушалась и пошла.
Арбат был пуст. Ветер гнал сухие струи колючего снега по чисто выметенным заледеневшим тротуарам и пронизывал мое ветхое пальтишко. Ближайший канцелярский магазин был уже закрыт, я упрямо направилась в тот, что находился за Староконюшенным. Переходя Николопесковский (в будущем улицу Вахтангова), я поскользнулась и упала. И тут же увидела свет фар двигающегося на меня автомобиля. Я пыталась встать, но скользили ноги, скользили руки, опиравшиеся на лед. Автомобиль неуклонно, хотя и очень медленно приближался. Кругом — ни души. Я чувствовала себя букашкой, бьющейся в свете лампы. Мне казалось, что гибель неминуема. Но автомобиль, приблизившись ко мне почти вплотную, тихо и плавно объехал меня и проскользнул на Арбат. Как только померк слепящий свет фар, я тут же поднялась на ноги. Магазин у Староконюшенного был уже закрыт. Саня встретила меня в передней шепотом: «А что тебе говорили? Неслух. Вот пожалуюсь матери. Она ведь дома». Но конечно, не пожаловалась. Она-то была истинным «другом детей». Я тоже молчала, хотя весь вечер у меня дрожали руки.
Мама с Лёлей Капеллер сидели за столом и пили крепкий горячий чай, оживленно разговаривая и не обращая на мое появление внимания. Их задержка объяснялась и общим собранием в институте по случаю 8-го марта (вот я и запомнила дату: мама удивлялась, что весна на носу, а такой мороз), и тем, что трамваи не шли из-за заносов. Мама и Лёля Капеллер полпути из Сокольников прошли пешком.
Русская метель, ни с чем не сравнимая цена крова над головой в наш лютый мороз, уют чаепития с бесконечными пылкими разговорами — эти постоянные черты нашей жизни в любые времена я впервые сознательно приняла в сердце в вечер 8 марта 1933 года. И тогда же осознала новый облик нашего некогда веселого и оживленного Арбата как воплощение холодной жестокости нового времени: пустынность и порядок, черный автомобиль, слепящие фары, страх. И закрепилось тогда в душе четкое разделение и противостояние черного, жесткого, холодного внешнего мира и дома, которому угрожает этот мир. Дом был и сам не очень тепел и сытен, но в нем всегда давалась возможность разумом преодолеть фальшивость победивших абстракций и преступность царящей беспощадности. Источником разума была, конечно, мама. Папа охранял теплом заботы, молча.
5
Саня Одувалова, быстро войдя в сложный и бедный московский быт с его карточками, очередями, примусами, коммунальными квартирными страстями, в то же время явно и открыто тосковала о деревне. Она готовилась весной вернуться домой. Сидя вечерами за длинными пяльцами, поставленными под окном вдоль мягкой и тоже длинной «дворянской скамеечки», Саня без устали «строчила» многочисленные батистовые изделия (трикотажного дамского белья еще не было) для мамы, ее сестер, подруг, наших соседок и вслух подсчитывала свои заработки — накопления на приданое. В сундучке у нее уже лежал розовый и салатный шифон на платья и блестящие резиновые ботинки — все из торгсина, приобретенное на царские золотые, запеченные в Волкове Анной Федоровной в ржаные кокуры и присланные в Москву дочери. Папа разламывал лепешки, чтобы вынуть монеты, а мы все трое стояли в ожидании этих обломков и тут же съедали их. Лежа в постели перед сном я воображала себя взрослой в воздушных разноцветных платьях из Саниного шифона.